Збигнев Залуский - Сорок четвертый
- Название:Сорок четвертый
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Воениздат
- Год:1978
- Город:Москва
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Збигнев Залуский - Сорок четвертый краткое содержание
Подробно излагая ход боевых действий по освобождению Польши от фашистских захватчиков, З. Залуский, сам прошедший дорогами войны с Войском Польским до Берлина, особо подчеркивает решающий вклад Советского Союза и его Вооруженных Сил в разгром гитлеровской Германии и освобождение Польши.
Основываясь на документах, литературных произведениях, личных переживаниях, автор живо и красочно рассказывает о событиях и явлениях того бурного времени. В поле зрения автора исторические факты различного масштаба: от официальных политических акций до личных судеб простых людей, от фронтовых операций до боев отдельных партизанских отрядов.
Сорок четвертый - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
В верхах «лондонской» Варшавы и «польского» Лондона подобного убеждения и подобных чувств не было, и не без причины.
В день, когда батальоны 27-й дивизии АК на полях под Киверцами приносили присягу на верность знаменам с пястовским орлом, знаменам, на которых было написано «За нашу и вашу свободу», правительство в Лондоне получило депешу:
«Отряды 27-й пехотной дивизии в составе четырех батальонов со штабом под командованием Остои перешли Буг 7.6 сего года. Расквартированы в районе Парчевских лесов. Дисциплина очень хорошая, снаряжение плохое. Болеют малярией» {53} 53 „PSZ”, op. cit., s. 599.
.
Командующий АК вызвал майора Жеготу в Варшаву. Отчет Жеготы Главному командованию АК не оставил сомнений в том, что на Волыни политические цели «Бури» достигнуты не были. Решительной, заметной демонстрации не получилось. Не представилось случая. 27-ю дивизию АК обвиняла в том, что она не проявила надлежащей «неуступчивости» в отношении Советской Армии. Начальник штаба ГК АК полковник Гжегож (Тадеуш Пелчиньский) даже потребовал сменить командование 27-й дивизии и назначить ее командиром полковника Твердого (Котовича). Его личность должна была послужить гарантией большей «неуступчивости» в будущем…
Из опыта делались выводы.
Выражая сожаление, что лишь часть солдат-волынцев смогла впоследствии принять участие в дальнейшей борьбе и в окончательной победе над гитлеровской Германией на полях сражений под Берлином, майор Жегота много лет спустя напишет:
«Если бы мы не оказались тогда отрезанными и не попали бы в окружение в Мазурских лесах, судьба отрядов 27-й пехотной дивизии АК сложилась бы иначе».
Неутихающая «Буря»…В новой инструкции для отрядов АК, которым предстояло встретиться с советскими войсками, генерал Бур уточнял принципы поведения, предусматривавшие, чтобы «совместная с советскими войсками борьба против немцев не могла быть использована Советским Союзом в качестве политического козыря для утверждений, что Польша стремится к сотрудничеству с ним».
Новая инструкция гласила: «Командиры АК ведут боевые действия против немцев как можно дольше совершенно самостоятельно, не ища опрометчиво связи с советскими частями». Она напоминала, что «АК должна утвердить польский характер восточных областей и непризнание их отделения от Польши» и, наконец, разъясняла, что «АК выражает волю нации, стремящейся к независимости. Это вынудит Советский Союз ломать нашу волю силой» {54} 54 Там же, с. 580.
.
Такие-то споры велись в те годы… Когда генерал Тадеуш Бур-Коморовский подписывал эту новую инструкцию, в Освенциме, в Яновском районе, на улицах Варшавы — повсюду не только воля, но все бытие, сама жизнь нации сокрушались всей мощью гитлеризма. Однако предмет заинтересованности правительства и лондонского командования был весьма далек от реальных трагических забот и неотложных потребностей общества. Одну войну — войну против немцев вели в этот момент народ и его солдаты, все, в том числе и солдаты Оливы и Жеготы, на полях сражений с захватчиками, и именно во взаимодействии с советскими солдатами; и совсем другую войну, против кого-то другого и за что-то другое вели польское лондонское правительство и командование АК в эфире, в своих инструкциях, распоряжениях, нотах и депешах. Но ведь эти инструкции и депеши определенным образом настраивали людей, тех, кто вел борьбу. Настраивали их так, чтобы их борьбу против немцев можно было использовать как демонстрацию против Советского Союза, как средство политического давления на приближавшуюся самую крупную и могучую антигитлеровскую силу, использовать ее в целях, не связанных, больше того — противоречивших потребностям скорейшего освобождения страны. Но направленное таким образом действие, поставленная таким образом сцена столкновения двух миров заключали в себе внутренне присущую им и совершенно независимую динамику. Она должна была развиваться. В каком направлении? Бур поставил точки над «и». Речь шла о том, чтобы вынудить Советский Союз применить против АК силу…
Разумеется, никто не говорил об оказании вооруженного сопротивления Советской Армии, об обороне границы с оружием в руках. Но все инструкции, все приказы, все разъяснения, самым тщательным образом доводимые сверху до самых маленьких лесных отрядов АК и подпольных повстанческих взводов, разрешали самооборону («естественное право на самооборону») в случае «советского насилия». «А можно ли осуществлять самооборону без использования оружия?» — разумно ставил вопрос генерал Соснковский.
Речь шла именно об этом. О том, чтобы пролилась кровь. О том, чтобы кровь, разочарование и горечь, уязвленная гордость превратились бы в непреодолимую преграду, отделяющую Польшу от Советского Союза с большим эффектом, чем пропаганда польского лондонского правительства и приказы командиров.
Речь шла о культивировании и углублении враждебности, ненависти. Не только на текущий момент. На годы и поколения вперед.
Не без основания замечено, сколь большую роль в формировании польско-советских отношений сыграл двадцатый год. Нападение Пилсудского на Киев на долгие годы отодвинуло польско-советское сближение.
В своем самом существенном замысле «Буря» должна была сыграть подобную же роль. Демонстрация становилась провокацией. Провокация принесла кровавые плоды.
Давно уже утратили всякий смысл, вероятно, самые важные в свое время цели «Бури»: демонстрация ушедшего в прошлое польского характера восточных земель, показ «обоснованности» власти польского лондонского правительства, защита старорежимной Польши — ее географических очертаний, ее политического содержания и классовой сущности. Все это стало далеким историческим прошлым, столь же далеким, как и границы 1772 года, и извечные законы шляхетской вольности и демократии. Все минуло, испепелилось и развеялось вместе с liberum veto [6] Право вето в сейме, по которому, если один депутат проголосовал «против», решение большинства не принималось. — Прим. ред.
, конституцией иноверцев и «Сиятельнейшей гаранткой». Но разве от «Бури» так уж ничего и не осталось? Разве она не повлияла на человеческие судьбы? Разве она не сказывается еще и сегодня на позициях людей, не возвращается в воспоминаниях? Сами авторы «Бури» сегодня уже ничего не значат. Но исчезли ли все последствия их деятельности? Разве эти последствия, зачастую нераспознанные, не до конца осознанные, уже умерли?
Как оценить принятый как раз в тот момент подобный замысел? Как оценить безумную «историческую отвагу» или, возможно, скорее, отсутствие чувства ответственности у тех, кто приложил немало усилий и хитрости, чтобы в 1944 году сделать еще более высоким тот порог недоверия и враждебности между братскими соседними народами, о который Польша однажды уже спотыкалась в межвоенное двадцатилетие, чтобы обострить обоюдную морально-психологическую и политическую неприязнь, а эта неприязнь имела своими последствиями военное поражение, утрату независимости, оккупацию и шесть миллионов убитых?!
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:


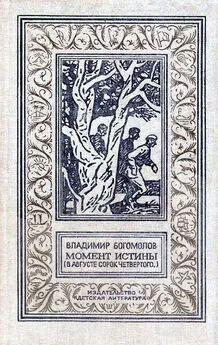

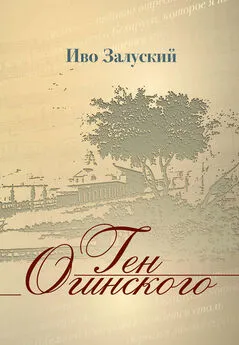
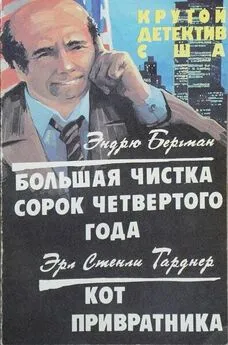
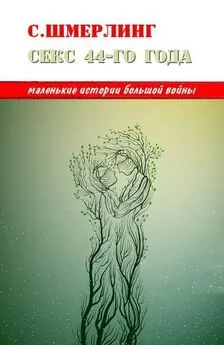
![Владимир Перстнев - Жаркий август сорок четвертого [К 70-летию Ясско-Кишиневской операции и освобождения г. Бендеры от фашистских захватчиков]](/books/1076104/vladimir-perstnev-zharkij-avgust-sorok-chetvertogo-k-70-letiyu-yassko-kishinevskoj-operacii-i-osvobozhdeniya-g-bendery-ot-fashistskih-zahvatchikov.webp)
![Анатолий Никаноркин - Сорок дней, сорок ночей [Повесть]](/books/1086820/anatolij-nikanorkin-sorok-dnej-sorok-nochej-poves.webp)
