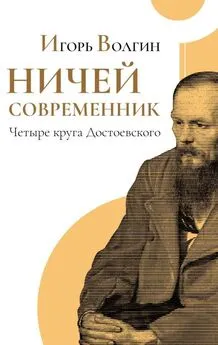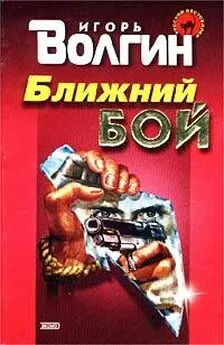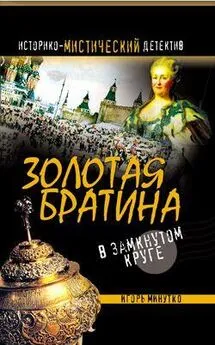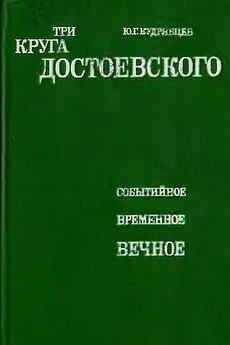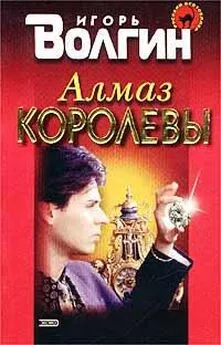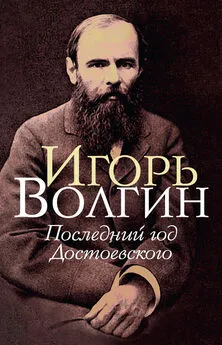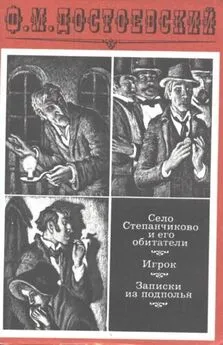Игорь Волгин - Ничей современник. Четыре круга Достоевского
- Название:Ничей современник. Четыре круга Достоевского
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Литагент Нестор-История
- Год:2019
- Город:СПб.
- ISBN:978-5-4469-1617-7
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Игорь Волгин - Ничей современник. Четыре круга Достоевского краткое содержание
На основе неизвестных архивных материалов воссоздаётся уникальная история «Дневника писателя», анализируются причины его феноменального успеха. Круг текстов Достоевского соотносится с их бытованием в историко-литературной традиции (В. Розанов, И. Ильин, И. Шмелёв).
Аналитическому обозрению и критическому осмыслению подвергается литература о Достоевском рубежа XX–XXI веков. В формате PDF A4 сохранен издательский макет книги.
Ничей современник. Четыре круга Достоевского - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Можно сказать, что Достоевский ведёт бой с призраком.
То «историческое решение», о котором он говорит и которое не приемлет, есть не что иное, как решение буржуазное.
Действительно, лозунг, вкладываемый Достоевским в уста «пролетариата», – “Ote toi de lá, que je m'y mette” (прочь с места, я встану вместо тебя), – есть лозунг раннебуржуазный и осуществлённый именно третьим сословием. Автор «Дневника» переносит социальные приёмы несимпатичного ему класса на противостоящее этому классу «четвёртое сословие» и «моделирует» победу последнего, исходя из уже имеющихся исторических образцов.
Точно так же, как, «раскрывая скобки», он создавал собственные «образы» идей – свободы, равенства, братства, – он творит теперь собственный «образ» социализма, принимая за последний именно его «уличную» трактовку.
Это один из глубочайших парадоксов Достоевского. Разводя «нравственное» и «историческое», писатель выступает, по сути дела, за их соединение. Ибо то, что он подразумевает под «историческим решением», есть, в сущности, решение буржуазное, глубоко безнравственное, и в конечном счете – антиисторическое. Оно неизбежно приводит к противостоянию (как бы сейчас сказали – конфронтации) нравственных и социальных целей.
Достоевский хочет сделать нравственное решение – решением историческим. Он стремится к тому, чтобы нравственные и социальные цели совпали.
Но не таково ли, в «идеале», одно из кардинальных требований научного социализма?
Автор «Дневника» предлагает для решения этой проблемы метод, ничего общего с методом социализма не имеющий и восходящий к основам православного миропонимания. При этом нельзя не отметить глубины и серьёзности социальной этики Достоевского. Нельзя не констатировать постоянной устремлённости его этического вектора именно в том направлении, какое привлекало самое пристальное внимание основоположников социалистической науки [406].
Маркс писал в «Тезисах о Фейербахе»: «Точка зрения старого материализма есть “ гражданское ” общество; точка зрения нового материализма есть человеческое общество, или обобществившееся человечество» [407].
Достоевский хочет, чтобы цели исторические совпали с целями человеческими. Он исходит из необходимости «восстановить» личность, расторгнуть её насильственную связь с нечеловеческим и античеловеческим целым. Он мечтает одушевить само это целое, и в этом смысле не приближается ли он к точке зрения «нового материализма»?
Увы, автор «Братьев Карамазовых» не был материалистом. Он, которого всю жизнь «Бог мучил», не может не привнести в своё восприятие русской революции этого существеннейшего «корректива».
«Другим одно, – говорит Иван Алёше во время их знаменитого разговора в трактире, – а нам, желторотым, другое, нам прежде всего надо предвечные вопросы разрешить, вот наша забота. Вся молодая Россия только лишь о вековечных вопросах теперь и толкует».
Русская революция – вопрос не тактики и даже не стратегии: это «предвечный вопрос». Однако его «практическое» разрешение волнует Достоевского ничуть не в меньшей мере, нежели разрешение онтологическое. И если одним своим полюсом русская революция погружена в первостихию «истинного» христианского сознания, то другой её полюс целиком пребывает «в истории». Только в сопряжении этих двух полюсов, в их текучем переменчивом взаимосуществовании можно «ухватить» многообъёмную, «стереоскопическую» мысль Достоевского.
Социальная революция религиозна по своему внутреннему смыслу; это, однако, не означает, что она мыслится Достоевским как революция исключительно религиозная.
Между тем «пророчество» писателя понималось именно так.
«Красные знамёна политических восстаний, – пишет Мережковский, – бледнеют перед этим невиданным ультра-пурпуровым цветом религиозной революции» [408].
Здесь не только всё «революционное» сводится к чисто религиозному, здесь всё «общественное» лишается своего собственного содержания и наполняется сугубо теологическим смыслом. «Во всяком случае, – продолжает Мережковский в своей работе “Пророк русской революции”, – наша бесконечная религиозная надежда только в нашем бесконечном политическом отчаянии: только там, где кончается абсолютная государственность, начинается абсолютная религиозная общественность. Мы надеемся не на государственное благополучие и долгоденствие, а на величайшие бедствия, может быть, гибель России, как самостоятельного политического тела и на её воскресение, как члена вселенской Церкви, Теократии» [409].
Так вот какую революцию призван «пророчествовать» Достоевский! Вот когда «русское решение вопроса» оказывается действительно (буквально!) окончательным, ибо после него прекращаются всяческие вопросы, равно как и существование самой России.
Не слишком ли высока цена?
Не слишком ли высока цена за «выход из истории» или, выражаясь словами Мережковского, за переход из одного бытия в другое – «из плоскости исторической в глубину апокалипсическую»?
Достоевский предпочитает «остаться» – «со слезинкой ребёнка».
«А которые в Бога не веруют, – продолжает Иван, – ну те о социализме и об анархизме заговорят, о переделке всего человечества по новому штату, так ведь это один же чёрт выйдет, всё те же вопросы, только с другого конца».
Но если «один же чёрт», то оба «конца» как бы равноправны. Бессмысленно гадать, какая сторона медали «главнее»: «лицо» и «оборот» могут поменяться местами.
«Общественное» постоянно скрывает у Достоевского глубокую религиозную подоплёку: это обстоятельство очень точно почувствовал Мережковский. Но он не пожелал увидеть «обратного»: сама христология Достоевского – общественна, его теологичность – социальна. Более того: сознание писателя – при всей своей апокалипсичности – отнюдь не порывает с историей; оно «замыкается» на нечто сугубо посюстороннее. Даже переход государства в церковь (что Мережковским и мыслится как «выход из истории») не есть акт чисто теологический; такой «переход» (вспомним разговор на эту тему в келье старца Зосимы) – обществен, ибо в конечном счете призван повести не только к внутрицерковному «соединению», но и к торжеству в «самой истории» универсальных христианских начал.
«Итак, – жёстко замечает К. Леонтьев (мыслитель, к слову, более “трезвый”, нежели Мережковский), – пророчество всеобщего примирения людей о Христе, не есть православное пророчество, а какое-то чуть-чуть не еретическое» [410]. Это «чуть-чуть» – нецерковно, вернее – внецерковно в ортодоксально-православном смысле, ибо есть «своего рода “ересь”, неформулированная, не совокупившаяся в организованную еретическую церковь…» [411]
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: