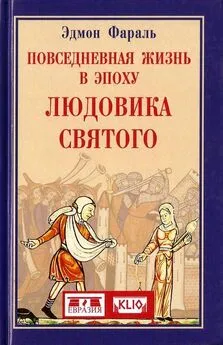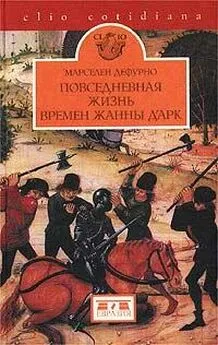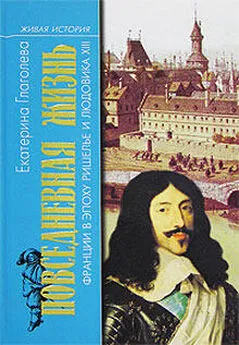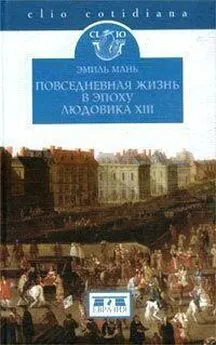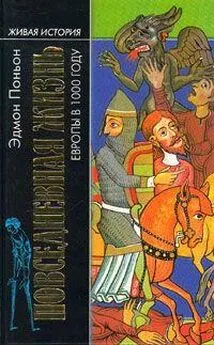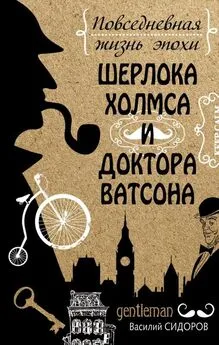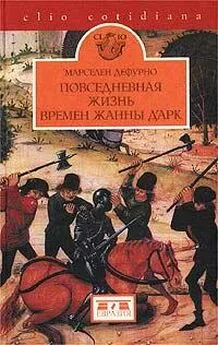Эдмон Фараль - Повседневная жизнь в эпоху Людовика Святого
- Название:Повседневная жизнь в эпоху Людовика Святого
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Евразия
- Год:2017
- Город:Санкт-Петербург
- ISBN:978-5-91852-171-7
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Эдмон Фараль - Повседневная жизнь в эпоху Людовика Святого краткое содержание
Повседневная жизнь в эпоху Людовика Святого - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Это никоим образом не выливалось в насильственные движения, и видеть здесь следует лишь предвестие зарождающихся конфликтов, раздоров, которые вспыхнут лишь позже. Но ряд других обстоятельств в то время привел к разногласиям, проявившимся сразу и более острым.
Нищета никогда не оказывает умиротворяющего воздействия наумы. Магнаты, сеньоры и обеспеченные бюргеры жили на широкую ногу, а бедняки страдали, и их было много. Ряд признаков показывает, что общество в то время еще не обрело равновесия, которое бы удовлетворяло всех. Жизнь при хозяине — это рабство, но в определенной мере и защищенность: от дома богача можно кормиться. Напротив, вольноотпущенник, который отныне может рассчитывать лишь на самого себя и собственные умения, чтобы обеспечить свое существование, вынужден искать оплачиваемую работу; так вот, найти применение своим силам он мог не всегда, а если и находил, то не обязательно по душе.
Благотворительных и содействующих организаций было недостаточно, чтобы помочь всем несчастным, страдающим от болезней и лишений.
В Париже было полдюжины больниц или богаделен, где паломники, старики, бедные и больные получали прибежище или заботу: больница Сент-Авуа, основанная в 1288 г. недалеко от ворот Тампль, для проживания сорока бедных вдов; больница Сен-Жерве, основанная в 1171 г., для размещения проезжих; больница Сен-Жак, основанная в 1183 г. И предназначенная для паломников; больница Ла-Трините, на углу улиц Сен-Дени и Гренета, которая, открывшись как больница для бедных, в XIII в. уже принимала только паломников; больница Трехсот, основанная Людовиком Святым около 1260 г. для размещения трехсот слепых; наконец, Отель-Дье [357] См. «Книгу Тальи» y Жеро (Géraud), ссылки в таблице.
.
Но, похоже, эти заведения не удовлетворяли всех нужд, притом средства на их содержание поступали нерегулярно. Слепые из больницы Трехсот ходили по улицам, во все горло прося подаяния. Даже Отель-Дье, где о больных заботились и который был самым значительным из благотворительных учреждений, существовал за счет даров или пожертвований, твердо рассчитывать на которые было трудно. К нему проявляли интерес короли: рассказывают, что когда старший сын Людовика Толстого погиб, упав с лошади, которая споткнулась о бродячую свинью, было приказано, чтобы каждую свинью, обнаруженную на улицах, сержанты Шатле убивали, а мясо отдавали в Отель-Дье; в ту же больницу передавали использованную солому из королевских апартаментов; Людовик Святой освободил от дорожной пошлины съестные припасы для больных, которые здесь лечились, а Филипп Красивый ежегодно жаловал этой больнице триста тележек дров, нарубленных в его лесах. Деятельность этого заведения поддерживали и цехи: прибыль от торговли в единственной лавке золотых дел мастеров, открытой каждое воскресенье, шла на то, чтобы на Пасху давать обед для больных Отель-Дье; суконщики, когда их братство собиралось на пир, посылали тем же больным хлеба, вина и мяса; иногда эти больные получали и продукты, отнятые в соответствии с уставными требованиями у некоторых купцов. Но сама природа этих даров или передач свидетельствует, что обойтись без них было трудно.
Если говорить только о бедняках, то король Людовик Святой ежедневно сажал к себе за стол, в большом зале, сотни две бедных, которых считал нужным накормить и которым раздавал деньги. Он принимал участие и во многих других бедняках, не попадавших во дворец. Церковь, со своей стороны, собирала милостыню и распределяла ее. Тем не менее улицы кишели нищими и нищенками. В сердца тех, кто ради спасения своей души, а порой из чистого бахвальства или ради соблюдения обычаев отдавал нуждающимся толику своих средств, дух милосердия не всегда проникал глубоко. Бедняку, даже менее всего виновному в своей участи, добиться благосклонности или жалости было непросто. Он вызывал подозрения: «Гляньте, — могли сказать, — на этого попрошайку! Такой крепкий малый, а просит милостыни! Небось обжираться и хлестать вино он здоров! А он не работает; да он заслуживает палки или тюрьмы» [358] Роман о графе Анжуйском. Стих 5549 и далее.
.
По некоторым праздничным дням устраивали раздачу милостыни, «aumônes». Эти мероприятия бывали масштабными, но развития не получили. Свой вклад в их организацию вносили аббатства, церкви, сеньоры и различные дарители. На них издалека толпами стекались бедные. Зрелище было тягостным. Собиралась толпа обездоленных, порядок и молчание которой поддерживали сержанты, вооруженные розгами и дубинками. Если кто-то был несколько активней, чем положено, или поднимался с места, он получал сильный удар по спине или по голове, чтобы соблюдал дисциплину [359] Ibid. Стих 5640 и далее.
.
Нельзя было ожидать, чтобы эта масса отверженных и нищих смирилась со своей участью: при случае она принимала участие в волнениях. Но еще опаснее в городах была другая категория населения — сброд, темные личности, подонки общества, все эти «ротозеи», «мечтатели», «врали», оставившие память о себе в полицейских ордонансах и в плутовских историях, от шулеров, приживалов, мелких жуликов до карманников, профессиональных воров, «котов», живших за счет женщин, и грабителей с большой дороги [360] См. фаблио De Boivin de Provins (О Буавене из Провена) // Recueil général et complet des Fabliaux des XIII et XIV siècles. Publié par A. de Montaiglon, G. Raynaud. Paris. 1872–1890. T. V. P. 52; De Barat et Haimet (О Барате и о Гемете) // Ibid. Т. III. P. 93 и De Saint Pierre et le Jongleur (О святом Петре и жонглере) // Ibid. T. V. P. 66).
.
Для борьбы с проходимцами, бродившими по улицам, прохлаждавшимися и укрывавшимися в тавернах, притонах и сомнительных домах, откуда они выходили по ночам на лихие дела, королевская полиция в Париже была вынуждена организовать дозорную службу; и это дело выглядело посерьезней, чем охрана на башнях и на дозорных путях замков, где «стражи» на ночных дежурствах, возможно, не слишком полезных, развлекали себя песнями и звуками своих горнов. В городе ремесленникам поначалу приходилось самим выделять стражу, чтобы охранять себя и свое добро от воров. Потом уставы придали этому институту официальный характер. С тех пор такая служба вменялась в обязанность всем цехам, кроме некоторых, производящих предметы роскоши и поэтому пользующихся привилегиями как поставщики товаров для сеньоров и церковников. Караульные обязанности возлагались на самого мастера, хозяина мастерской, и лишь позже в качестве льготы стали допускать, чтобы он посылал вместо себя подмастерье. Эта служба была обязательной для лиц до шестидесяти лет, и основания для освобождения от нее четко оговаривались: если мастеру сделали кровопускание, или у него рожает жена, или он болен. Караульная служба начиналась, когда темнело. С наступление ночи мужчины направлялись в Шатле, где их вносили в списки и делили на несколько дозоров. На посту они оставались до восхода солнца, когда караульный сержант «трубил конец дозора» и объявлял, что все могут расходиться по домам. Каждый цех дежурил приблизительно раз в три недели и выделял человек по шестьдесят. Эта обязанность была не синекурой. Цехи часто обращались в высшие инстанции, чтобы добиться освобождения от этой службы. Власть противилась — у нее были свои резоны, она сознавала полезность этой службы, и это становится понятным из самого содержания прошений. Не всех: цементщики и каменотесы, утверждавшие, что получили освобождение, «о коем передавалось от отца к сыну», лично от Карла Мартелла, вопреки всякой исторической очевидности оправдывали свое прошение грубоватой игрой слов с именем «Мартелл». Более убедительной выглядит жалоба старьевщиков, согласно которой в Шатле более не соглашаются на то, чтобы о причинах неявки мастера сообщал сосед или подмастерье: это должна делать лишь его жена. «А ведь, — пишут они, — нехорошо и постыдно, чтобы женщина находилась в Шатле после наступления темноты, пока дозоры не разойдутся, и отправлялась домой длинными улицами по такому городу, как Париж, всего лишь в сопровождении ребенка, а то и совсем одна: следствием сего бывают несчастья, преступления и бесчестье» [361] «Книга ремесел». Глава CXLI.
.
Интервал:
Закладка: