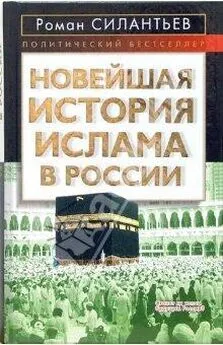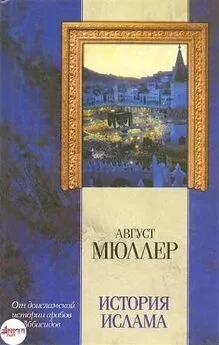Фридрих Мюллер - История ислама. Том 3, 4. С основания до новейших времен
- Название:История ислама. Том 3, 4. С основания до новейших времен
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Центрполиграф
- Год:2018
- Город:Москва
- ISBN:978-5-227-07821-6
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Фридрих Мюллер - История ислама. Том 3, 4. С основания до новейших времен краткое содержание
История ислама. Том 3, 4. С основания до новейших времен - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Он сумел ловко держать себя в войнах между Лодием и Бабуром и даже расширить свое уже значительное влияние в Бихаре; посещение двора Великого Могола открыло ему многое относительно силы и слабостей нового владыки. Хумаюн был совершенным ребенком сравнительно с человеком, который, как он, знал страну и людей, мог рассчитывать на большую личную партию и умел обдуманно воспользоваться завистью афганцев к новому завоевателю. Удовлетворенный знаками внешней покорности, он предоставлял Фериду совершенно свободно действовать до тех пор, пока в 945 (1538) г. не увидел его распоряжающимся всей восточной частью своего царства, устраняющим давно погибшее правительство Бенгалии и, после запоздалых попыток принудить его к повиновению, появляющимся во главе сомкнутого афганского войска в округе столицы Агры.
При Канодже на Ганге, едва в двадцати милях от столицы, слабый сын Бабура проиграл решительное сражение и императорский трон (947 = 1540 г.) смелому мятежнику — или, если угодно, восстановителю власти на основании исторического права. Хумаюн должен был бежать в Кабул, откуда некогда вышел его великий отец. Он ссорился из-за Кабула и Кандагара со своими ближайшими родственниками, с которыми не был в силах справиться, должен был провести продолжительное время в Персии в качестве гостя шаха Тахмаспа, где с ним обходились, едва соблюдая приличия, — короче, несчастий у него было больше чем он мог побороть. Тем временем Шир-шах (947–952 = 1540–1545), как он называл себя со времени битвы при Канодже, сильной рукой водворил в Индустане и Пенджабе не только афганское владычество, но также порядок и управление; если бы за двадцать лет до того трон Агры занимал такой человек, как он, вместо слишком неблагоразумного Ибрахима Лодия, то и сам Бабур никогда не овладел бы Индостаном.
Но судьба преследовала афганцев: стараясь прочно обеспечить свое царство дальше к югу, шах был смертельно ранен взрывом пороха при осаде крепости Калинджар (около 10 миль к западу от Аллахабада), находившейся еще под начальством своего собственного раджи, и скончался в тот же день. Можно сказать, что с его смертью судьба его дома была решена. Его сын Ислам-шах (952–960 = 1545–1553) добился трона не без противодействия одного из старших братьев; это был энергичный воин и человек далеко не без способностей, но он впал в ошибку Ибрахима Лодия, слишком легко возможную при необузданности афганского дворянства, — он раздражил эмиров резким обращением — и это, конечно, имело последствием снова восстания, которые повергли в новое смятение только что успокоенную Шир-шахом страну. Ранняя смерть Ислам-шаха довершила несчастье. Его малолетний сын был убит самым жестоким образом своим дядей, и скоро между ним и другими родственниками была опять в полном разгаре междоусобная война. Не столько вялый Хумаюн, как его способный полководец Бейрам-хан сумел с энергией и искусством воспользоваться раздроблением афганских сил и всеобщим настроением народа, жаждавшего возвращения порядка, для восстановления монгольского владычества. При Сирхинде [355]афганцы потерпели в 962 (1555) г. поражение от монголо-имперских войск, прошедших через Пенджаб почти без сопротивления, поражение, которое при тогдашнем положении дел было решающим. Через несколько недель Хумаюн опять вступил в столицу, покинутую пятнадцать лет назад, население которой, помня великого Бабура, встретило его с ликованием.
Не было несчастьем, что несколько месяцев спустя этот добрый государь причинил себе смертельные повреждения падением с мраморной лестницы своего дворца (963 = 1556 г.). Чтобы из монгольского государства в Индии что-нибудь вышло, оно должно было попасть в другие руки, и, хотя наследнику и сыну Хумаюна Акбару (963–1014 = 1556–1605) было всего 13 лет, судьба Индии захотела, чтобы среди интриг восточного двора, которые не раз угрожали опасностью молодому государю, созрел характер, который в истории человечества остается достопамятным, а в истории ислама — единственным. Конечно, трудно решить, имеем ли мы право считать этого величайшего из могольских императоров мусульманином. Но история ислама не должна упустить его: так как он, за исключением нескольких редких людей, как Абу-иль-Ала и Омар Хайям, единственный выросший в магометанских верованиях государь, стремлением которого было облагородить ограниченность этой чуть не самой исключительной из всех религий и возвести ее до истинной человечности. Конечно, здесь не могло быть удачи; но задача была велика, как велик был и тот, кто взялся за нее.
Что этот государь, царствование которого еще теперь представляется северному индусу золотым веком его отечества, сильно установил свою власть на протяжении всего Индустана, что он опять присоединил к общему государству Бенгалию, остававшуюся еще некоторое время в руках афганцев, потом Мальву, Хандеш, Читор и Гуджерат, — обо всем этом можно упомянуть здесь вообще, не входя в подробности. Мы должны обратить внимание не на эти внешние успехи, которые постепенно начинают совпадать с умножавшимися европейскими поселениями в Индии. То, что было у его деда Бабура следствием военного и дипломатического искусства, у Акбара является следствием широкого взгляда великого политика и государственного человека, принимающего свои меры не ради минутных тактических соображений, а для действительно идеальных целей. Можно пожалеть, что жизнеописание Акбара не попалось в руки Лессингу. Это был бы подходящий человек для него: потомок такого чудовища, как Тимур, возымел мысль, невероятную для восточного человека и неясную даже для многих западноевропейцев, — мысль править Индией не для своей собственной особы или для ислама, но для блага индусов.
Этот падишах был первый и единственный, который захотел вместо победителей и побежденных создать равноправных граждан одного и того же отечества; и насколько возможно было до его столетия, он предугадал также понятие о религиозности, основанной единственно на личной ответственности человека, которое мы привыкли обозначать словами «свобода совести». Не следует слишком поспешно произносить приговора над религиозными выводами Акбара. Он был искренний искатель истины; от него далеко подозрение, что он хотел пользоваться религиозными мотивами для политических целей. Когда его не удовлетворили мусульманские улемы, он обратился к индийским брахманам, наконец, выпросил себе у португальцев из Гоа иезуитских патеров — и мы знаем, что ему прислали не самых неискусных. Все это он делал для того, чтобы разрешить великую тайну. Восточный государь XVI столетия из несогласимости учений, из которых ни одно не сумело убедить его [356], вывел следствие, что все они ничего не стоят и что его обязанность — найти новое, которое удовлетворило бы всем требованиям. Этим, без сомнения, ошибочным воззрением он все же опередил тех из своих западных коллег, которые предоставляли другим людям диктовать себе догматику, а потом поступали по принципу cuius regio eius religio [357]. Разумеется, мы исключим Генриха VIII Английского, но и его догматика отстала от Акбаровой, так как последний под конец сделался настолько немагометанином, что запретил последователям своей новой веры многоженство: тем же, которые предпочли свою старую религию, он никогда не отравлял существования, пока они молчали.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
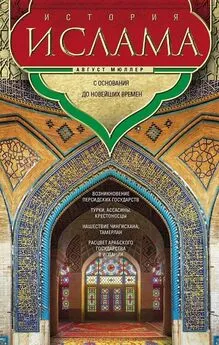
![Дмитрий Калюжный - Другая история Московского царства. От основания Москвы до раскола [= Забытая история Московии. От основания Москвы до Раскола]](/books/140705/dmitrij-kalyuzhnyj-drugaya-istoriya-moskovskogo-carstv.webp)