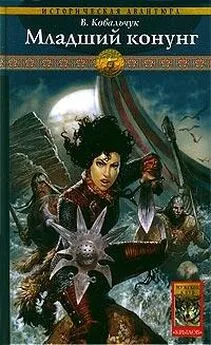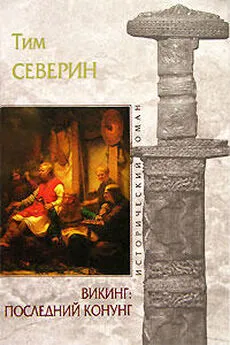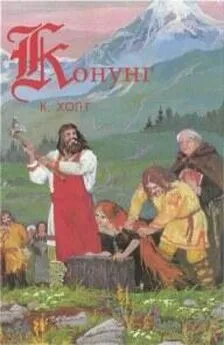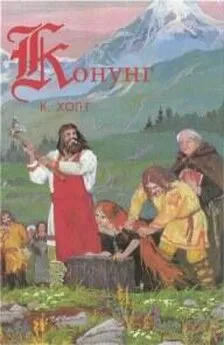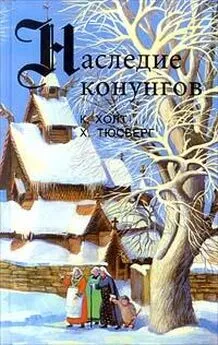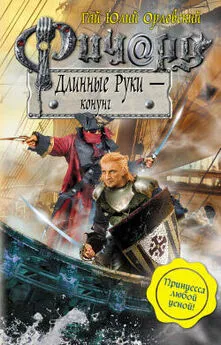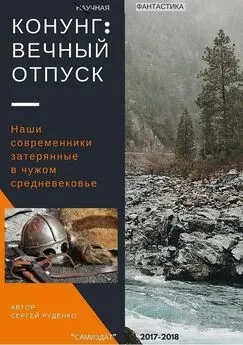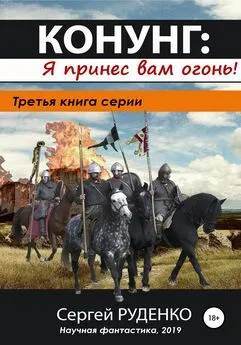Вячеслав Фомин - Голый конунг. Норманнизм как диагноз
- Название:Голый конунг. Норманнизм как диагноз
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Литагент «Алгоритм»1d6de804-4e60-11e1-aac2-5924aae99221
- Год:2013
- Город:Москва
- ISBN:978-5-4438-0430-9
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Вячеслав Фомин - Голый конунг. Норманнизм как диагноз краткое содержание
Кто были летописные варяги и почему Гитлер был норманнистом? Каково происхождение норманнской теории и за что ее современные сторонники так ненавидят гениального русского ученого Ломоносова? Как фальсифицируют историю России? Ответы на эти и многие другие вопросы читатель найдет в книге доктора исторических наук Вячеслава Фомина, ведущего специалиста по русскому Средневековью. И друзья, и научные оппоненты называют его «современным лидером антинорманнизма». Автор в своей работе наносит сокрушительный удар норманнской теории происхождения Русского государства, полемизирует с ее адептами и жестко критикует «конунга» российских норманнистов Льва Клейна.
Голый конунг. Норманнизм как диагноз - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Зная, видимо, что отсутствие в сагах имен предшественников Владимира Святославича прямо указывает на время его правления как на время начала проникновения скандинавов на Русь, следовательно, демонстрирует надуманность ее утверждений о IX–X вв., автор связывает русского князя Игоря с неким Ингваром, известным по одной из саг. Эта идея совсем свежая и порождена она «взвешенно-объективно-научным норманнизмом» (прежние «невзвешенно-необъективно-ненаучные» норманнисты такого отождествления избегали). В 1996 и 1999 г. Г.В. Глазырина, отмечая якобы имеющееся совпадение имен др. – сканд. Yngvarr и русского Игорь, не исключала, что «конунг из Гардов» Ингвар из «Саги о Стурлауге Трудолюбивом», созданной около 1300 г., «идентичен князю Игорю, пришедшему, согласно, древнерусским источникам, в Киев с севера». В 2002 и 2005 г. мною было подчеркнуто, что попытки «объявить конунга Ингвара… князем Игорем являются чистейшим источниковедческим произволом», одобренным единомышленниками Глазыриной. Вместе с тем я тогда же констатировал: «Как показывает практика, один из приемов норманистов как раз и заключается в том, чтобы, высказав мнение, многократным повторением придать ему силу несомненного факта» [329]. В данном случае псевдофакт не просто стал «несомненным фактом», но уже прописался в таком качестве в вузовском учебнике.
Занимаясь школами исследования русского летописания, Вовина-Лебедева заключает: «Летописец ошибался, думая, что в легенде о призвании варягов речь идет о трех братьях. Дело в том, что фраза, звучавшая на древнескандинавском языке как «Рюрик сине хус трувор», обозначает в переводе: «Рюрик с домом и дружиной» [330]. Но это она кардинально ошибается, зря возводя напраслину на летописца, как ошибается, датируя знаменитую битву при Липицах 1224 г. [331], тогда как та произошла в 1216 году.
В первой части я касался разговора, начало которому в нашей науке положил в 1956 г. «советский антинорманнист» Б.А. Рыбаков, что имена братьев Рюрика Синеуса и Трувора представляют собой якобы ошибочное толкование древнешведских слов: Синеус (sine hus) – «свой род», а Трувор (thru varing) – «верная дружина». И эту чушь «советского антинорманнизма», согласно которой «Сказание о призвании варягов» есть перевод с древнешведского, что якобы подтверждает норманнство варягов, торжественно огласил в сентябре 2002 г. представитель «взвешенно-объективно-научного норманнизма» археолог Е.Н. Носов на пленарном заседании Международной конференции «Рюриковичи и российская государственность», проходившей в г. Калининграде и посвященной 1140-летию призвания варягов на Русь.
Чуть повторюсь: этот норманнистский миф, давно внесенный в школьные учебники и превративший несколько поколений наших соотечественников в норманнистов, в том числе воинствующих, которые ныне поливают антинорманнистов, лишающих их примитивных и так привычных им представлений о русской истории, грязной бранью, разрушает одно лишь свидетельство Пискаревского летописца, отразившего многовековую традицию бытования в нашей истории имени Синеус. В известии под 1586 г. об опале на князя А.И. Шуйского и его сторонников сказано, что «казнили гостей Нагая да Русина Синеуса с товарищи». К тому же, как отмечал в 1994 г. С.Н. Азбелев, толкованию имен братьев Рюрика как sine hus и thru varing противостоит русский фольклор о князьях Синеусе и Труворе, т. е. народная память о них, людях, а не о искусственно созданных конструкциях sine hus и thru varing, которые, надо добавить, чужды шведскому языку (даже норманнисты указывают, что sine hus и thru varing полностью не соответствуют «элементарным нормам морфологии и синтаксиса древнескандинавских языков, а также семантике слов hus и væringi , которые никогда не имели значение «род», «родичи» и «дружина»…») [332]. Противостоит такому толкованию и свидетельство француза К. Мармье о Рюрике, Сивар и Труворе, т. е. также народная память потомков южнобалтийских славян.
Отрицающему существование норманнизма норманнисту Клейну следует привести еще одно свежее и также петербургское свидетельство даже не бытия норманнизма, а пребывания его в самом распрекрасном расположении духа.
В 2012 г. в Северной столице была издана ПВЛ, комментарии к которой написали члены, как они себя представляют, содружества «двух филологов (литературоведа и лингвиста), двух историков (украинского и российского) и поэта» [333]: А.Г. Бобров, А.М. Введенский, Л.В. Войтович, С.Л. Николаев, А.Ю. Чернов (среди них два доктора филологических наук и один доктор исторических наук). И вот этот дружный коллектив норманнистов с легкостью превратил – а норманнистам все по плечу! – древнейшую русскую летопись в «лживую» сагу, славящую деяния скандинавов на Руси (о чем в самой летописи, естественно, нет ни слова). Превратил своими комментариями, которые представляют собой один из ярчайших образцов использования летописи – причем, весьма назойливого, с обильным привлечением по каждому поводу схожих и несхожих сюжетов из мифов и истории скандинавов – в качестве иллюстрации норманнистского взгляда на русскую историю, в связи с чем теперь можно говорить еще, помимо Лаврентьевской и Ипатьевской, и о третьей редакции ПВЛ – «норманнистско-шведской» (или «питерско-украинской»).
Этим комментариям вообще свойственна какая-то удивительная бесцеремонность в толковании текста летописи, чего не скрывает лингвист Николаев (а он много даже чего необыкновенного объяснил из русской истории тем, кто «не владеет скандинавскими языками» [334]): «Настоящее издание не относится ни к академическим, ни к энциклопедическим, поэтому авторы не ограничивали себя в подходах. …Что кроме научного в комментариях проводится и интуитивный, «поэтический» подход к великому тексту, который не противоречит научному, а иногда и дополняет его». Говоря же о своей статье «Семь ответов на варяжский вопрос», читаемой после комментариев, Николаев подчеркнул, что эти ответы «по форме академичны, но следуют духу издания – содержат идеи, некоторые из которых экстравагантны и находятся на «грани научного фола» [335].
Один из примеров множества проявлений «интуитивно-поэтическо-экстравагантного», проще говоря, норманнистского подхода, а также чрезмерного владения комментаторами «скандинавскими языками» и чрезмерной любви ко всему скандинавскому, виден в пояснении к летописному известию, что Олег прибил щит на врата Царьграда: «А.Ю. Чернов предположил, что Олег, прибив щит на городских воротах, продемонстрировал свое происхождение из рода Скьельдунгов. Князь Олег являлся в таком случае потомком легендарного Скьельда, одного из сыновей бога древних скандинавов Одина, имя которого, как считают многие исследователи, было образовано от слова «щит». А несколько ниже находится такое же глубокомысленное рассуждение: «Если Олег вешает на царьградские врата «скьельд» (skiǫldr – щит), слово, созвучное с его родовым именем, то Инглинг, надо полагать, вряд ли бы так поступил» [336]. Да тут и полагать не надо, господа хорошие, сколько всего вы уже навешали читателю под видом науки и изуродовали великий текст, к которому надлежит относиться с великим уважением (в 2011 г. Чернов на проходившей в Старой Ладоге Международной конференции, ссылаясь на рассуждения Е.А. Мельниковой о том, что «личное имя Хельги/Хельга прежде всего отмечается в именослове Скьельдунгов – легендарной династии правителей о. Зеландия…», утверждал, что «Олег повесил на врата не свой герб (гербов еще не было), а свое родовое имя», что «из этого символического жеста потомка Скьельда позже и родилась европейская геральдика», «что, сам того не подозревая, провозгласил он и учреждение новой традиции – геральдической» и что «легенда о щите – отголосок не дошедшей до нас киевской саги о Вещем Олеге», которая «не могла возникнуть в XII веке, ведь летописец уже не знал, что Олег – Скьельдунг» [337]).
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: