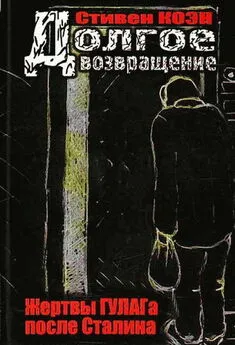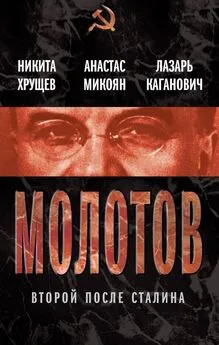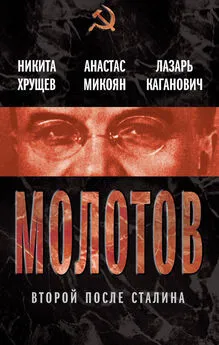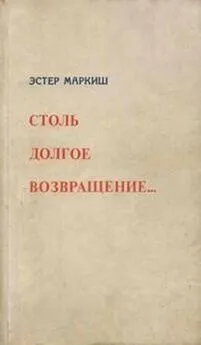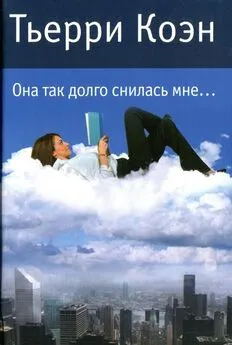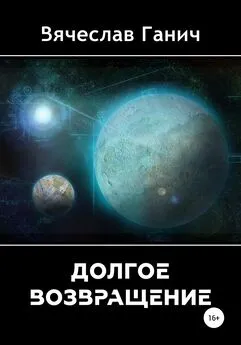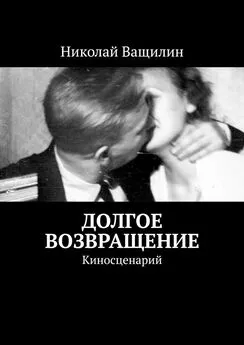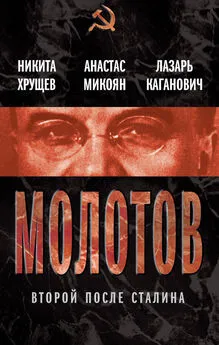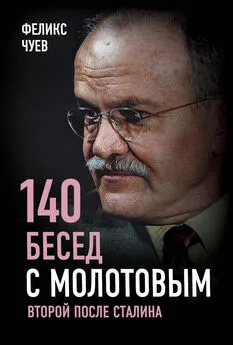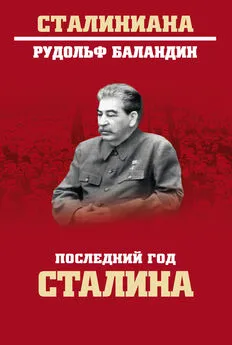Стивен Коэн - Долгое возвращение. Жертвы ГУЛАГа после Сталина
- Название:Долгое возвращение. Жертвы ГУЛАГа после Сталина
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Новый хронограф: АИРО-XXI
- Год:2009
- Город:М.
- ISBN:978–5-91022–100–4
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Стивен Коэн - Долгое возвращение. Жертвы ГУЛАГа после Сталина краткое содержание
В центре внимания нового (или, как выясняется, не очень нового) исследования видного американского историка Стивена Коэна — нелёгкий процесс возвращения и реабилитации жертв сталинского террора. Среди вопросов, волнующих автора: перипетии этого процесса при Хрущёве и после него, роль бывших репрессированных в политике оттепели, а также неоднозначное отношение к ГУЛАГу и гулаговцам со стороны власти и общества в СССР и постсоветской России.
Долгое возвращение. Жертвы ГУЛАГа после Сталина - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Нередкими были и политические конфликты между реабилитированными. Помимо споров между бывшими зеками по поводу изображения лагерной жизни в «Одном дне Ивана Денисовича», серьёзные разногласия возникли у Солженицына с другим крупным гулаговским автором, Варламом Шаламовым, а с близким другом по Гулагу Львом Копелевым он разошёлся по «идейным» соображениям {49} 49 См., напр., письма Шаламова // Независимая газета. 1998. 9 апреля; Книжное обозрение. 1997. №27–28; Золотоносов Михаил // Московские новости. 1995. 10–17 сентября, а также Пархоменко Ким // Независимая газета. 1991. 5 января. По поводу Копелева см. Карякин Юрий. Перемена убеждений. — М., 2007.С. 232. См. также Померанц Григорий о Шаламове и Георгии Демидове // Новая газета. 2008. 5–7 мая.
. Блестящий мемуарист Евгения Гинзбург, отказавшаяся восстанавливаться в партии, не смогла простить своего товарища по Гулагу Мильчакова, который, по её презрительной оценке, вернул себе не только партбилет, но и доарестное мышление {50} 50 Гинзбург. Крутой маршрут. С. 623–626.
. Один из «возвращенцев», достигший высот в научном мире, был возмущен поведением своей дочери-диссидентки, которое якобы ставило под угрозу то, за что он страдал. Похожей была и реакция дочери Бухарина, историка Светланы Гурвич, на публичные протесты её сводного брата Юрия Ларина. (Справедливости ради, следует сказать, что наука и, особенно, история всегда были очень зависимыми от политики профессиями.) Годы спустя словесная война вспыхнула между соперничающими организациями бывших зеков {51} 51 См. Антонов-Овсеенко. Портрет тирана. С. 469–477, а также Smith. Remembering. P. 177–178, где события изложены с позиции «Мемориала».
. А после распада Советского Союза, несмотря на ненависть большинства бывших репрессированных к Сталину, Карпов и священник Дудко выступили с положительной оценкой его исторической роли {52} 52 См. Карпов // Советская Россия. 2002. 27 июля; Правда. 1995. 26 апреля и он же. Генералиссимус. В 2-х томах. — М., 2002; священник Дудко Дмитрий. Посмертные встречи со Сталиным. — М., 1993.
. [12] По некоторым данным, Рокоссовский отказался участвовать в антисталинской кампании Хрущёва, заявив: «Товарищ Сталин мне святой!». Советская Россия. 2008. 6 марта.
В своей совокупности, однако, миллионы вернувшихся из Гулага были новым важным фактором в жизни советского общества. Их общий опыт, общие чаяния и нужды рождали общие и распространённые проблемы, конфликты и культурные явления, которые требовали реакции со стороны политико-административной системы. Например, практически все «возвращенцы» добивались воссоединения семьи, права на медицинское обслуживание, квартиру, работу или пенсию, а также финансовой компенсации и возврата конфискованной собственности. В ответ на это советское правительство, как правило, предлагало неписаный, но часто озвученный социальный контракт: мы удовлетворим, в определённых пределах, ваши нужды и оставим вас в покое, а вы не будете предъявлять политических претензий к прошлому. (При освобождении многих гулаговцев предупреждали, что они не должны распространяться о том, что с ними произошло.)
Государственные органы мало чем могли помочь семьям, разорванным и разбросанным по стране за годы массовых репрессий — разве что поспособствовать в поиске друг друга, да и это делали в основном друзья и другие родственники. (Более того, КГБ ещё несколько лет продолжал лгать, скрывая факты смерти близких.) {53} 53 См. документ 1962 года в журнале Родина. 1993. № 5–6. С. 56–57.
. Детей, попавших в детские дома и интернаты, обычно удавалось отыскать, однако не всегда; порой поиск растягивался на десятилетия {54} 54 См., напр., Известия. 1992. 22 июня; Максимова Элла // Там же. 1993. 5 мая; Максимова Э.М. По следам загубленных судеб. — М., 2007, а также Дети Гулага. С. 12.
. К тому же, если дети были слишком малы и не знали своих родителей, воссоединение происходило трудно и порой заканчивалось ничем. Даже взрослые, вернувшиеся после многих лет заключения, оказывались не способны восстановить отношения с родителями, братьями и сестрами, оставшимися на свободе, как случилось, например, с Евгенией Гинзбург, обнаружившей, что её сестра «оказалась незнакомкой». (А в семье Нетто, по жестокому совпадению, в 1956 году один брат, Игорь, помог советской сборной по футболу выиграть олимпийское золото в Мельбурне, а другой, Лев, вернулся из Гулага.) {55} 55 Гинзбург. Крутой маршрут. С. 642. См. также Рыбакова Татьяна. Счастливая ты, Таня! — М., 2005. С. 363–365. Примеры, касающиеся детей, см. Austin Anthony // New York Magazine. 1979. Dec. 16. P. 26; Adler. Gulag Survivor. P. 140–141. О братьях Нетто см. Рыжков Владимир // Новая газета. 2008. 21–27 февраля.
.
Что касается браков, то многие из них безнадёжно разбивались, даже в тех случаях, когда оба супруга, и муж, и жена, оказывались в лагере {56} 56 Об одном хорошо известном примере — Евгения Гинзбург и Павел Аксенов — см. Смирнов Константин. Жертвоприношение // Огонёк. 1991. № 2. С. 18–21.
. Когда же один из супругов (обычно жена) оставался на свободе, порой проклиная другого за клеймо, легшее на семью, вариантов было множество — от счастливого финала до горького и трагического. Было огромное множество примеров супружеской верности — я всегда вспоминаю преданную жену Гнедина, Надежду Марковну, — но не меньше было и политических отречений, разводов и новых браков {57} 57 Другие примеры супружеской верности см. Мильчаков. Молодость светлая… С. 91–92 и Baitalsky. Notebooks. P. 389–391. Противоположный пример см. Лакшин // Литературная газета. 1994. 17 августа. О проблеме вообще см. Adler. Gulag Survivor. P. 139–145.
. Те, кто, вернувшись, обнаруживали, что их никто не ждёт, часто женились снова, нередко на таких же, как они, бывших жертвах — как поступили, например, Лев Разгон, Юрий Айхенвальд и Антонов-Овсеенко — или, как Снегов, Солженицын и Олег Волков, связали свою судьбу с более молодыми женщинами {58} 58 О роли молодой жены см., напр., Волков Олег. Погружение во тьму. — М., 1992. С. 428–429.
. [13] По поводу браков между детьми жертв см., напр., случаи Ирины Якир и Юлия Кима; писателя Юлиана Семенова, сына репрессированного, женившегося на дочери репрессированного; или Михаила Шатрова, чей тесть также был зеком. Другие случаи см. Figes. The Whisperers. P. 566, 650.
Очень многие вернувшиеся из лагеря женщины, по понятным причинам, так и остались одинокими, пополнив ряды вдов и незамужних женщин послевоенного времени. Немного сделало государство и для того, чтобы помочь бывшим жертвам, страдавшим от психологического «постлагерного синдрома» — тем, кто жил в постоянной тревоге, терзаемый воспоминаниями, ночными кошмарами и ежедневными отзвуками той своей страшной жизни. Советской системе было не до этого, а советская психиатрия этого состояния не признавала. Кто-то из бывших зеков искал успокоения в общении с узким кругом себе подобных, которые были им «как семья», а некоторые даже испытывали «ностальгию» по гулаговскому братству, основанному на совместной борьбе за выживание. Многим ли из них удалось обрести душевный покой — неизвестно {59} 59 Подробнее о проблеме см. Adler. Gulag Survivor. P. 114–118. В качестве примеров конкретных случаев см. Король М. о брошенной жене Маршала Буденного // Аргументы и факты. 1993. № 23 и Ким Юлий о Петре Якире // Общая газета. 1996. 8–14 февраля. По мнению Н.А. Морозова и М.Б. Рогачева (Отечественная история. 1995. № 2. С. 187), последствия «синдрома» сказывались десятилетиями. По поводу узкого круга общения см. о сообществах, сложившихся вокруг Солженицына и Гнедина: Сараскина. Александр Солженицын. С. 455–456; Орлова и Копелев. Мы жили в Москве. С. 61; Гинзбург. Крутой маршрут. С. 428; Adler. Gulag Survivor. P. 134. По поводу ностальгии см. Alexeyeva Ludmila and Paul Goldberg. The Thaw Generation. Boston, 1990. P. 88; Окуджава Булат // Новая газета. 2005. 5–11 мая и даже Солженицын. Архипелаг Гулаг. Т. 3. С. 484.
.
Интервал:
Закладка: