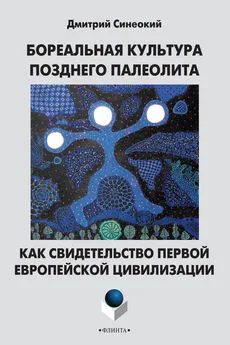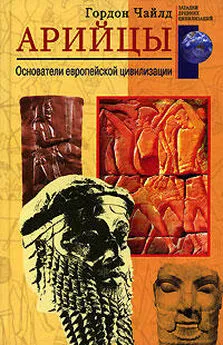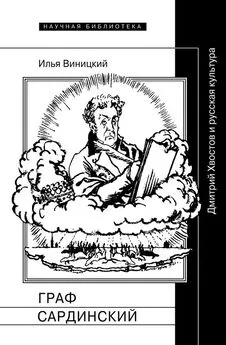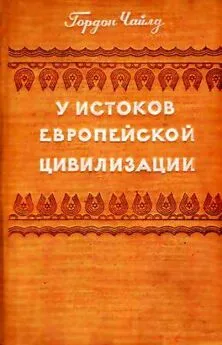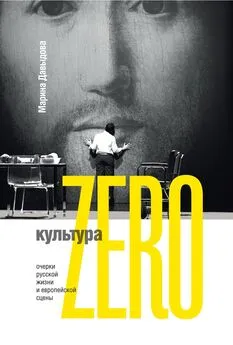Дмитрий Синеокий - Бореальная культура позднего палеолита как свидетельство первой европейской цивилизации
- Название:Бореальная культура позднего палеолита как свидетельство первой европейской цивилизации
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:ЛитагентФлинтаec6fb446-1cea-102e-b479-a360f6b39df7
- Год:2015
- Город:Москва
- ISBN:978-5-9765-2103-2
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Дмитрий Синеокий - Бореальная культура позднего палеолита как свидетельство первой европейской цивилизации краткое содержание
Работа подводит итог пятилетним исследованиям (2008–2012 гг.) петроглифов на северо-западе нашей страны, выполненным автором и его соратниками. В предыдущих работах автора был определен доледниковый возраст некоторых петроглифов на северо-западе России (Карелия, Кольский п-ов), что позволило говорить о наличии в позднем палеолите на данной территории бореальной (доледниковой) культуры, представленной пока только этими петроглифами. Датировка производилась геологическими и астрономическими методами. В данной работе автор обосновывает принадлежность данной культуры к первой европейской цивилизации.
Книга предназначена археологам, историкам, геологам и всем интересующимся историей древнего мира, происхождением современного человека, цивилизации и нового вида материи, созданного позднепалеолитическим человеком.
2-е издание, стереотипное.
Бореальная культура позднего палеолита как свидетельство первой европейской цивилизации - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
«По-видимому, распределение обнаруживаемых сходств не может объясняться случайностью, а является мотивированным: такое распределение указывает на то, что шесть рассматриваемых языков связаны отношениями языкового родства.
Этот вывод едва ли может быть опровергнут предположением о том, что для достаточно отдаленного периода следует постулировать заимствование таких языковых элементов, которые обычно не заимствуются в известных ныне языках, – названия элементарных действий, частей тела, местоимений, некоторых словообразовательных и морфологических элементов; мотивированный характер сходств шести праязыков в этом случае объяснялся бы заимствованием. Действительно, можно допустить заимствование отдельных из перечисленных выше наиболее существенных элементов языковой структуры. Но как показывают приведенные в этой работе данные, в каждом праязыке представлена охватывающая все стороны языковой структуры совокупность десятков таких элементов, сходных с соответствующими элементами других сравниваемых языков. Более того, несмотря на отдаленное родство шести праязыков, в большинстве их достаточно отчетливо сохранены некоторые наиболее устойчивые системы тождественных по происхождению морфем – прежде всего системы личных, указательных и вопросительных местоимений (см. таблицы ниже) и системы именной флексии (см. таблицы ниже). Заимствование в таких масштабах означают практически заимствование всей языковой структуры, переход на новый язык, что вновь приводит нас к выводу о генетическом родстве рассматриваемых праязыков».
(Иллич-Свитыч В. М., 1971 [36])
Как видим Иллич-Свитыч вариант с заимствованием, который в нашем представлении отвечает процессу конвергенции языков исключает, в том числе и на том основании, что в современных языках мы не видим заимствований на таком уровне.
Исходя из этого мы должны полагать, что моноязык в свое время развил все морфологические и грамматические элементы, сходство в которых отметил Иллич-Свитыч, и только затем стал распадаться на другие праязыки.
Однако этого мало. Старостин дает следующее обоснования существования изначального моноязыка.
«Кроме того, есть общие соображения – соображения структуры языка. Все, чем мы занимаемся в сравнительном языкознании, – это оболочка языка, собственно звуковая его сторона, то, как конкретные смыслы реализуются в разных языках. А оболочка очень эфемерна, она постоянно меняется: звуки переходят в другие или вовсе исчезают, происходят сложные фонетические изменения, слова теряются. Но если мы снимем эту оболочку и посмотрим, что там внутри, окажется, что мы в общем-то все говорим на одном языке. Человеческие языки имеют абсолютно сходную глубинную структуру. Можно назвать ряд свойств, которые универсально присутствуют в каждом человеческом языке. Это – наличие гласных и согласных, синтаксическая структура, в которой должны быть подлежащее, сказуемое и дополнение – синтаксические актанты.
Можно еще много говорить о деталях, но в принципе общее устройство языка абсолютно одинаково. Очень сомнительно, чтобы эта “глубинная структура” возникла в различных местах независимо».
(Старостин С. А., 2003 [10])
То есть, по мнению Старостина, моноязык должен был обладать еще более сложной структурой, чем та, которую мы можем представить исходя из работ Иллич-Свитыча. Кроме этого, Старостин расширяет и географию своего борейского языка. Он включает в него ностратическую макросемью, правда в отличие от Иллич-Свитыча он не относит к ней афрозийскую (по-другому семито-хамитскую) семью, поэтому афрозийскую семью по Иллич-Свитычу он считает афрозийской макросемьей и относит к борейской гиперсемье отдельно от ностратической макросемьи, кроме этого, к ней Старостин относит сино-кавказскую макросемью и америндскую макросемью.
Итого борейская гиперсемья по Старостину состоит из следующих макросемей: ностратической, афрозийской, сино-кавказской, америдной.
В этой группе, как мы понимаем, сходства должны быть выявлены на еще более высоком грамматическом и морфологическом уровне, а сам праборейский язык Старостина должен быть древнее и праностратического языка Иллич-Свитыча, и прабореального языка Андреева.
На мой взгляд, такая конструкция противоречит общему ходу эволюции, которая идет от простого к сложному. Странно полагать, что сначала возникла абстрактная структура языка, где были определены категории существительных, глаголов, прилагательных и т. д., а только потом стало происходить их семантическое наполнение. Следует полагать, что все происходило ровно наоборот. Сначала возникало общее смысловое соответствие между звуком и неким объектом или явлением, а затем при достижении этих соответствий некоторого множества стало происходить выделение грамматических категорий.
Неудивительно, что и на сайте «Вавилонская башня» [37], основанный Старостиным, где собрано много работ, продвигающих идею моногенеза, работы Андреева не представлены.
Но, если мы опять не будем зацикливаться на идее моногенеза, то концепция Старостина, как матрешка, может восприниматься следующим слоем, в нашем построении от концепции Андреева к концепции Иллич-Свитыча и далее к концепции Старостина с еще более сложным языковым соответствиям и более широкой географией. Однако при этом следует понимать, что ни ностратического языка Иллич-Свитыча, ни борейского языка Старостина и даже бореального языка Андреева в действительности никогда не существовало. Существовали совсем другие языки, и они только имели отмечаемые исследователями сходства, но это вовсе не означает, что у них был общий, приводимый в реконструкции предок.
Известное стихотворение В. М. Иллич-Свитыча на ностратическом языке это бессмысленный набор, никогда не существовавших слов, во всяком случае, в рамках одного языка. Иллич-Свитыч составил ностратический словарь, руководствуясь абсолютно недоказанным предположением о существовании ностратического языка в прошлом.
Как говорят, следите за руками. Мы выявляем некие сходства у группы языков, полагая, что у этой группы был один предок, подбираем реконструкцию таким образом, чтобы объяснить эти сходства, а затем сделанную реконструкцию предъявляем в качестве доказательства существования этого самого предка.
А почему не рассмотреть вариант, при котором существовал какой-то передовой язык, из него шли заимствования в другие языки и уже в других языках заимствования претерпевали изменения в соответствии со сложившимися нормами каждого языка.
От того, что англоязычные термины претерпевают обрусение в русском языке, их произношение в английском языке не меняется, но если мы предположим существование общего русско-английского предка и захотим его реконструировать на основе только этих общих терминов, без привлечения истории возникновения этих слов, вдруг выяснится, что английские слова произошли от непонятных, никогда не существовавших слов. Можно возразить, что заимствования в таких исследованиях следует исключать. Возразить можно, но тогда я хочу спросить каким образом Иллич-Свитыч отличал эти заимствования и много ли он исключил заимствований при реконструкции ностратического словаря?
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: