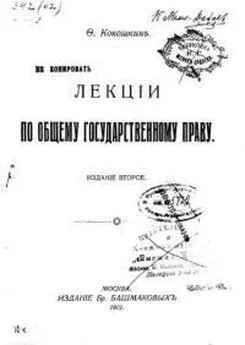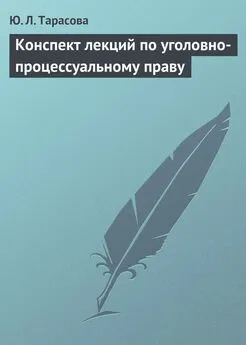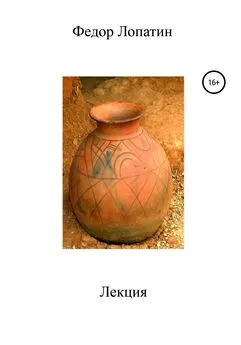Федор Кокошкин - Лекции по общему государственному праву
- Название:Лекции по общему государственному праву
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:2004
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Федор Кокошкин - Лекции по общему государственному праву краткое содержание
Лекции по общему государственному праву - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Общую волю Руссо отождествляет с законом, причем признаком закона, по его учению, является не только общее участие всех членов государства в его установлении, но и общность его содержания. Законы содержат лишь общие правила, но не конкретные предписания. Общая воля есть воля, исходящая от всех и устанавливающая предписания для всех. Именно потому она всегда справедлива и непогрешима. Суверенный народ, устанавливая общие правила, не касается частных интересов и потому не может их нарушить; нарушить же общих интересов он не может потому, что это его собственные интересы. Общие правила, уподобляясь законам природы, не нарушают свободы личности. Рабство есть зависимость не от законов, а от индивидуальной воли другого лица. Именно такую зависимость и устраняет неограниченное господство общей воли. Логическим выводом из хода рассуждений Руссо является непосредственная демократия как политический идеал. Законодательная власть, согласно его теории, должна принадлежать непосредственному народному собранию, в котором участвуют все граждане.
Но одного законодательства, т. е. установления общих правил, недостаточно для существования общежития. Необходимо исполнение законов, т. е. применение общих правил к конкретным случаям. Эта функция, по мнению Руссо, не может принадлежать законодателю, т. е. суверенному народу, а должна быть вверена особому органу — правительству. Необходимость отделения исполнительной власти от законодательной обосновывается у Руссо следующими аргументами. Во-первых, исполнительная власть должна действовать постоянно и потому осуществление ее непосредственным народным собранием практически невозможно даже в самых маленьких государствах. Во-вторых, что еще важнее, постановление сувереном конкретных решений, касающихся всегда частных интересов, могло бы исказить самую его природу, — суверен должен всегда иметь в виду лишь общие интересы и совершенно не касаться частных. В-третьих, соединение законодательства и исполнения в руках одного и того же органа стерло бы практически различие между ними и поколебало бы то господство общего правила над конкретным решением, которое является необходимым условием свободы.
Правительство, которому вверяется исполнительная власть, может иметь различную организацию, определяемую законодателем: монархическую, аристократическую или демократическую. Это различие, в глазах Руссо, не имеет существенного значения. Но, как бы ни была организована исполнительная власть, она должна быть безусловно и всецело подчинена законодательной — не только в том смысле, что она является послушным орудием велений суверена-законодателя (Руссо сравнивает отношение правительства к законодательству с отношением руки или ноги человека к его воле), но и в том смысле, что правители избираются суверенным народом, ответственны перед ним и могут быть во всякий момент им сменены. Правительство имеет известную независимость лишь постольку, поскольку народ не может непрерывно находиться в сборе. Но раз он собрался, действие всех других властей прекращается. По образному выражению Руссо, в это время звучит "голос Бога на земле", и все другие голоса перед ним умолкают.
Будучи, таким образом, безусловно подчинено суверену-народу, правительство, однако, поскольку оно исполняет установленные им законы, столь же безусловно господствует над отдельными лицами, составляющими этот народ. Соотношение между народом как целым, правительством и совокупностью отдельных граждан, составляющих народ, Руссо наглядно изображает в виде математической непрерывной пропорции, в которой правительство занимает место среднего члена. Народ-законодатель относится к исполнительной власти так же, как исполнительная власть относится к отдельным гражданам.
Мы видим, что в теории Руссо материальное разделение функций государственной власти чрезвычайно стройно и последовательно соединяется с формальным. Законодательство есть установление общих правил и именно поэтому оно должно принадлежать народу, состоящему из всех граждан, исполнение же, т. е. применение общих правил к конкретным случаям, должно быть вверено особому органу, который точно так же подчинен народу, как конкретные решения подчинены общим правилам. Нужно, однако, заметить, что и у Руссо материальная и формальная классификации все-таки не вполне совпадают. Суверенный народ не только устанавливает общие правила, но, кроме того, избирает правителей, осуществляет их ответственность и, в случае надобности, сменяет их. По мнению Руссо, ему же должно принадлежать право помилования осужденных преступников. Все это, несомненно, конкретные акты, затрагивающие частные интересы. Руссо хорошо сознает это и потому оговаривается, что в виде исключения суверену принадлежит и совершение некоторых конкретных актов. Но это не законы, а декреты суверена.
Теория Руссо по своей гениальной простоте, стройности и законченности представляет, несомненно, одно из величайших произведений человеческой мысли, но, вместе с тем, это — чисто отвлеченное учение, которое не считается с реальными условиями политической жизни.
Прежде всего эта теория рассчитана на маленькое государство — общину, вроде античных республик. Весьма вероятно, что на Руссо оказали большое влияние условия жизни его родины. Он был женевским гражданином и принимал участие в политической жизни этого государства-города. Вполне естественно, что это участие повлияло и на его теорию. В одном месте своих сочинений Руссо говорит, что идеальное государство должно иметь около 10 000 граждан. В государствах такого размера, конечно, может существовать непосредственное народоправство в духе Руссо; по крайней мере, оно физически возможно. Но в современных крупных государствах непосредственное народное собрание как орган верховной власти совершенно немыслимо. Народное представительство, которое Руссо отрицал, здесь диктуется силой вещей, и в эпоху Французской революции самые горячие сторонники Руссо не помышляли никогда о введении того непосредственного народоправства, о котором он мечтал.
Далее, Руссо хочет свести свою государственную деятельность к двум функциям: 1) к установлению общих правил и 2) к точному исполнению этих правил в конкретных случаях. Исполнительная власть является поэтому у него пассивным, почти механическим орудием законодательной. Но в действительности такое соотношение между законодательством и управлением невозможно. Нельзя предусмотреть общими правилами все случаи жизни. Поэтому во многих областях жизни управление представляет собой не исполнение закона, а свободную деятельность в пределах и на основании закона. Такова, например, область международных сношений. Таковы же многие акты внутреннего управления, напр., созыв и роспуск законодательного собрания, назначение должностных лиц, смена их, издание общих правил по уполномочию законодателя. Это хорошо понимал Локк, и именно поэтому, наряду с исполнительной властью, он ставил федеративную власть и "прерогативу". Наконец, даже и самое приложение общих правил, устанавливаемых законами, в конкретных случаях, которые имеют место в деятельности исполнительной в тесном смысле слова и судебной власти, вовсе не есть простое, механическое исполнение, как оно рисуется Руссо и как оно, вообще, рисовалось писателям XVIII в. (Монтескье также думал, что судебная власть, в сущности, не есть власть, а только простая передача воли законодателя). В применении законов остается всегда известная доля самостоятельности для применяющего органа. В настоящее время существует даже течение в пользу расширения этой самостоятельности. Так, например, уголовному суду доставляется гораздо большая свобода в определении меры наказания, чем прежде. Новое швейцарское Гражданское уложение предписывает судье за неимением подходящего закона руководствоваться при разрешении дела той нормой, которую судья установил бы, если бы был законодателем.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: