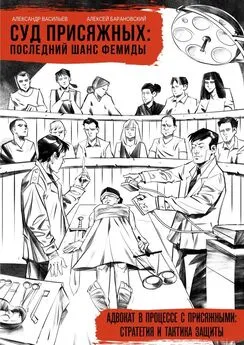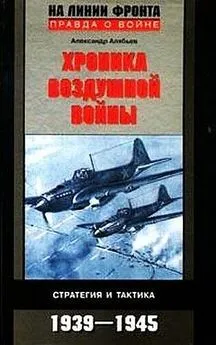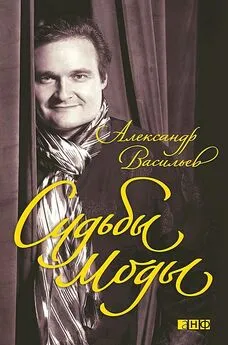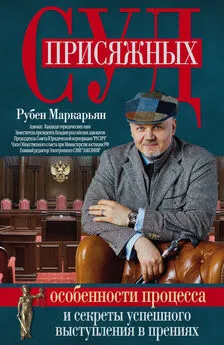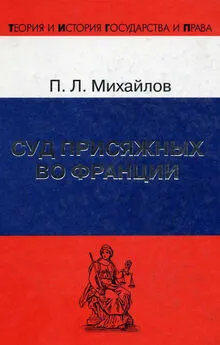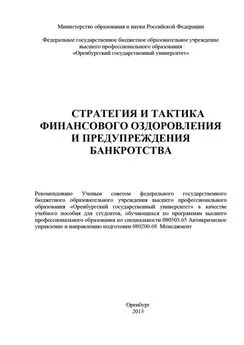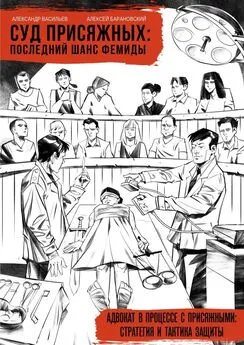Александр Васильев - Суд присяжных: последний шанс Фемиды. Адвокат в процессе с присяжными: стратегия и тактика защиты
- Название:Суд присяжных: последний шанс Фемиды. Адвокат в процессе с присяжными: стратегия и тактика защиты
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:2017
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Александр Васильев - Суд присяжных: последний шанс Фемиды. Адвокат в процессе с присяжными: стратегия и тактика защиты краткое содержание
Суд присяжных: последний шанс Фемиды. Адвокат в процессе с присяжными: стратегия и тактика защиты - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
18.3.5 Комбинирование блоков
Комбинации (перестановки местами и пр.) перечисленных выше смысловых блоков дают общее представление о том, как должна выглядеть защитительная речь в прениях. Вполне возможно, что с учетом специфики конкретного дела, вы дополните или скорректируете список этих составных частей. Это вполне естественно, поскольку составление защитительной речи процесс чрезвычайно творческий и не догматичный.
Теперь же пришло время нам поразмыслить над тем, как лучше компоновать перечисленные блоки в законченный продукт (блестящее выступление перед коллегией заседателей). И вновь, вопрос последовательности блоков не принципиален в делах с малым количеством эпизодов, и становится одним из первостепеннейших в случаях, когда обвинение имеет значительный объем. Наиболее универсальным способом компоновки, в этом случае, является составление защитительной речи, отталкиваясь от хронологии событий и разбивая ее на отдельные блоки поэпизодно. Во всяком случае, такое построение позволяет излагать доводы защиты наиболее последовательно (а значит понятно и убедительно).
Критической уязвимостью больших защитительных речей является наличие значительных разрывов между взаимосвязанными (по логике) тезисами, или между предпосылкой и выводом. Например, приходилось встречать ситуации, когда, анализируя конкретное доказательство, часть выводов оглашалась сразу после упоминания о нем, а часть — через некоторое время, после изучения иных доказательств и фактов. Естественно, что при этом у присяжных заседателей, не обладающих суперпамятью, возникало ощущение недоказанности аргументов защиты или просто каши в утверждениях адвокатов. Встречались даже ситуации, когда, анализируя какое-либо преступление, оно анализировалось защитой по частям. Например, отдельно анализировался факт соучастия подсудимого в эпизодах убийства №1, №2, №3, а затем факт применения в убийстве №1 оружия, совершения убийства №2 по мотиву национальной вражды и ненависти, а убийства №3 — с особой жестокостью. Полагаю, не надо дополнительно объяснять, насколько удручающе действует подобная фрагментарность изложения на мнение коллегии присяжных о стройности и доказанности доводов защиты.
Поэтому необходимо стремиться к тому, чтобы все предпосылки (доказательства) для последующего вывода защиты могли быть одновременно удержаны в памяти слушателя (присяжного): одна предпосылка — один вывод (в идеале)…
С учетом изложенного, возникает вопрос о неких общих принципах структурирования защитительной речи для прений. При этом сразу необходимо отдавать себе отчет, что единых, универсальных рецептов для этого дела не существует. Достаточно часто приходится делать исключения и применять нестандартные варианты с учетом особенностей того или иного конкретного дела. Однако, некоторые общие моменты в построении защитительной речи все-таки можно выявить.
Для начала вновь следует вернуться к основе любой защитительной речи в суде присяжных — предполагаемому содержанию вопросного листа и, прежде всего, его предполагаемой структуре. Не открою большого секрета если скажу, что в подавляющем большинстве случаев эпизоды преступлений компонуются в вопросном листе по хронологии. Именно по этой причине и свою собственную защитительную речь было бы крайне желательно также строить по хронологии — для максимального соответствия разбираемых фактов их последовательности в вопросном листе.
Впрочем, это тоже не аксиома, а лишь наиболее часто применяемый судьями прием. Но возможны и другие варианты. Например, работая все по тому же делу саранского коммерсанта Юрия Шорчева, я изменил порядок исследования эпизодов. Потому что, согласно предъявленному обвинению, Шорчев сначала принял участие в создании организованной преступной группировки, переросшей в последствии (в прокурорских галлюцинациях) в преступное сообщество, а только затем принял участие (опять-таки где-то в параллельной реальности) в организации нескольких убийств. Так что в предъявленном Шорчеву обвинении, первым преступным эпизодом было именно создание преступного сообщества. Однако проанализировав ситуацию, я пришел к выводу, что эту часть обвинения правильнее будет разбирать не в начале, а наоборот — в самом конце защитительной речи. Само по себе обвинение по ст. 210 УК РФ («сообщество») было крайне скудным на конкретные факты — место, время, участники, элементы структуры, конспирации и т. д. Все это было отражено в обвинении исключительно поверхностно и формально, что не позволяло стороне защиты всерьез опровергать эти безудержные фантазии конкретными доказательствами (голословные утверждения не так-то просто опровергать, на самом деле, все по формуле «а ты докажи, что ты не верблюд»). Поэтому, в первую очередь, я решил сосредоточиться именно на конкретных преступлениях, якобы совершенных Шорчевым в рамках якобы существовавшего преступного сообщества. Инкриминируемые ему убийства и вымогательства были сформулированы куда конкретнее, в результате чего защите с успехом удалось доказать непричастность Шорчева к их совершению (по мнению первой, распущенного коллегии присяжных заседателей). В итоге, к моменту начала анализа обвинения в организации преступного сообщества, сложилась парадоксальная ситуация — даже если Юрий Шорчев якобы организовал некое преступное сообщество, то это самое преступное сообщество не совершило ни одного преступления. Естественно, что такое положение вещей было немалым подспорьем для анализа обвинения в этой части…
Кстати, продолжая обсуждение некоторых специфических приемов, использованных при составлении защитительной речи по этому делу, следует отметить, что в каждом из инкриминируемых убийств и покушений было использовано огнестрельное оружие. Причем приобретение и передача этого оружия непосредственным исполнителям также инкриминировалось лично Шорчеву. Защита это, конечно, отрицала и формально об этом следовало бы сообщить в защитительной речи. Однако, дело в том, что защита вообще отрицала какую бы то ни было причастность Шорчева к исследуемым преступлениям. Соответственно, если бы присяжные заседатели признали правоту защиты (а в первом вердикте так и произошло), то имелись бы все основания считать, что факт передачи оружия Шорчевым кому бы то ни было, они также признали бы недоказанным. Если же присяжные признали бы вину Шорчева в организации преступлений доказанной, то наверняка признали бы они доказанной и передачу оружия. В связи с этими соображениями, мной было принято решение вообще исключить «оружейную тематику» из своей защитительной речи, ограничившись лишь констатацией позиции подсудимого о непризнании вины в том числе и по этому составу. К тому же, само по себе оспаривание оружейных статей не давало защите никаких дополнительных преимуществ, а признание Шорчева виновным в обороте оружия почти автоматически следовало бы из признания присяжными его вины по более тяжким обвинениям…
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: