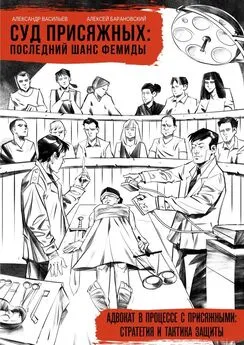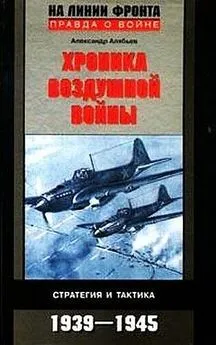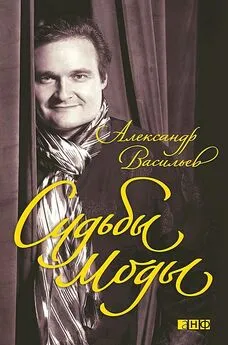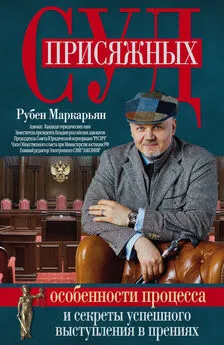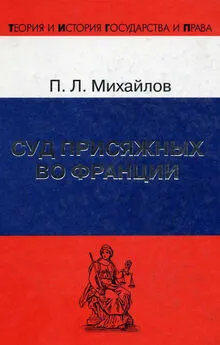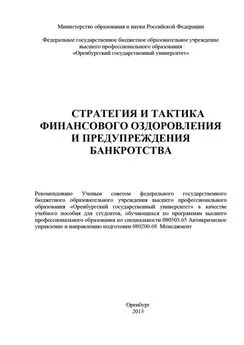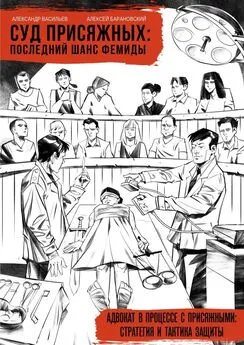Александр Васильев - Суд присяжных: последний шанс Фемиды. Адвокат в процессе с присяжными: стратегия и тактика защиты
- Название:Суд присяжных: последний шанс Фемиды. Адвокат в процессе с присяжными: стратегия и тактика защиты
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:2017
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Александр Васильев - Суд присяжных: последний шанс Фемиды. Адвокат в процессе с присяжными: стратегия и тактика защиты краткое содержание
Суд присяжных: последний шанс Фемиды. Адвокат в процессе с присяжными: стратегия и тактика защиты - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Вопрос 8. Если на 1-й вопрос дан утвердительный ответ, то доказано ли, что описанное в нем деяние совершил Б. в составе устойчивой и сплоченной группы людей, созданной не позднее 11 октября 1997 года с целью совершения нападений и лишение жизни участников аналогичных противоборствующих групп, действовавших на территории (…), для последующего взятия под свой криминальный контроль коммерческих объектов (…), контролировавшихся этими группами, а также для лишения жизни иных лиц, препятствующих осуществлению противоправной деятельности участников указанной группы. Не позднее 11 октября 1997 года Б., узнав от О. об указаниях руководителя группы Ш. лишить жизни участника противоборствующей группы Ю. Р. В., а также лиц, его охранявших, дал свое согласие. Затем Б. и О. разработали план нападения, распределили роли и провели слежку за Ю. Р. В. 11 октября 1997 в утреннее время О. и Б. подошли к гаражам, расположенным напротив корпуса №4 дома №4 по ул. Сущинского (…), где Б. получил от О. пистолет «ПМ» с 8 боевыми патронами, ранее переданный ему Ш. Примерно в 13 часов того же дня, увидев автомобиль марки «ВАЗ-2110» государственный регистрационный знак (…) под управлением Ю. Р. В., в котором также находились Л. Е. В., Г.Р.Х. и Ч. В. В., Б. с целью лишения жизни указанных лиц из имевшегося у него пистолета «ПМ» произвел в указанный автомобиль не менее 3 выстрелов. При этом Б. понимал, что подвергает опасности жизнь других людей, проходивших и проезжавших мимо в автотранспорте?
А вот теперь, ознакомившись с этим фрагментом вопросного листа, можете себе представить, как сложно будет присяжным его воспринять и осмыслить. Но это еще не все! Позиция защиты (защищал я как раз подсудимого Ш.) заключалась в том, что событие преступления имело место, но Ш. не имел никакого к нему отношения. А вот теперь — вообразите себе, какой объем текста следовало бы переписать присяжным в вопросном листе, чтобы признать участие Ш. в этом преступлении недоказанным: сначала нужно было признать недоказанным вопрос №2 (поставленный в отношении самого Ш.), а затем следовало бы скрупулезно и планомерно выписать (внизу страницы или на обороте листа) конкретные цитаты вопросного листа, которые они признают недоказанными про Ш. из вопросов о роли О. и Б. (Ну и для полноты картины следует отметить, что подобных «сложносочиненных» эпизодов в деле было 8 штук!).
Однако присяжные в ходе судебного заседания пришли к выводу о том, что помимо недоказанности участия в преступлении подсудимого Ш., не доказано также участие в нем подсудимых О. и Б. Но ведь могло быть и по-другому! Не оспаривая, например, соучастия О. и Б. присяжные могли прийти в ужас от предстоящего объема работы в отношении подсудимого Ш. и пойти по пути наименьшего сопротивления — признать его тоже виновным «за компанию».
Казалось бы, что такие формулировки вопросов очевиднейшим образом нарушают требования ч.7 ст.339 УПК РФ, предписывающей ставить вопрос в отношении каждого подсудимого отдельно. Можно было бы, например, формулировать вопросы, заменив подсудимых Ш., О. и Б. обозначениями «Лицо-1», «Лицо-2», «Лицо-3» с последующей конкретизацией личностей подсудимых в частных вопросах — тогда присяжным заседателям достаточно было бы признать, что, допустим, «Лицо-1» не является подсудимым Ш. и т. д. Однако, председательствующий в деле не для того, чтобы облегчить жизнь присяжным заседателям. Указанное предложение защиты им принято не было.
Но самое печальное заключается в том, что такая позиция председательствующего основывалась на судебной практике Верховного суда РФ. Согласно позиции ВС, в вопросе о причастности к преступлению конкретного подсудимого вполне допустимо указывать фамилии других подсудимых и описывать преступные действия, которые были ими совершены. При этом факт того, что ответ присяжных на вопрос о доказанности действий одних лиц будет фактически предопределять доказанность причастности и других подсудимых — Верховным судом деликатно «не замечается».
Так в Определении судебной коллегии по уголовным делам Верховного Суда РФ от 13.04.2005 г. по делу №81-о05—26сп, суд согласился с доводами прокурора и усмотрел нарушение закона судом первой инстанции в том, что в вопросе о причастности конкретного подсудимого к инкриминируемому деянию фамилии остальных подсудимых были заменены на термин «другие лица». Позиция ВС в итоге оказалась такая: «Подсудимым предъявлено обвинение в том, что они завладели чужим имуществом с конкретными лицами, а не с другими лицами», после чего оправдательный приговор, конечно, был отменен, а дело направлено на новое рассмотрение.
Свое развитие эти юридические изыски получили в Кассационном определении ВС РФ от 24 октября 2013 г. №56-О13—28сп:
«В соответствии со ст.339 ч.7 УПК РФ, вопросы были поставлены в отношении каждого подсудимого отдельно. Вместе с тем, необходимо учитывать, что действующий уголовно-процессуальный закон не содержит запрета при формулировании вопросов упоминать действия других лиц в той мере, в какой эти действия охватываются предъявленным обвинением».
Как видно из приведенной цитаты, ВС РФ как бы «не замечает» того факта, что упоминание других лиц, фактически приводит к неоднократному выяснению причастности подсудимых к одним и тем же деяниям, но в разных вопросах вопросного листа (что сулит возникновение противоречий в ответах на вопросный лист, что, конечно, будет использовано против подсудимых).
Еще одно Кассационное определение ВС РФ от 9 февраля 2010 г. №4-О10—5сп — здесь ВС РФ вновь подтверждает правомерность указания в вопросах в отношении каждого из подсудимых фамилий других лиц, проходящих по делу. При этом дополнительно указывается на то, что сторона защиты против таких формулировок не возражала, а присяжные заседатели вправе были исключить из любого вопроса указание на фамилию другого подсудимого и, тем самым, признать его невиновным в совершении преступления…
Или вот Апелляционное определение ВС РФ от 15 мая 2014 г. №80-АПУ14—8сп — в данном случае суд вновь объединил в основном вопросе (вопросе о виновности подсудимого) как самого подсудимого, так и фамилии соучастников преступления. На доводы апелляционной жалобы защиты о незаконности постановки вопроса в такой форме, ВС РФ возразил:
«Что касается фамилий других осужденных Новикова и Беспалова, то они правильно указаны в основном вопросе №5 в отношении Эминова, так как он обвинялся в совершении преступлений вместе с ними в составе организованной группы».
Наиболее же подробно Верховный суд озвучивает свою позицию по данному вопросу в Определении Судебной коллегии по уголовным делам ВС РФ от 28.06.2006 г. №67-о06—36сп. В ней суд ссылается на ч.8 ст.339 УПК РФ, требующей постановки вопросов перед присяжными в понятных присяжным заседателям формулировках, которую ВС РФ по факту ставит выше, чем прямое указание на необходимость постановки отдельных вопросов по каждому подсудимому в ч.7 той же ст.339 УПК РФ:
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: