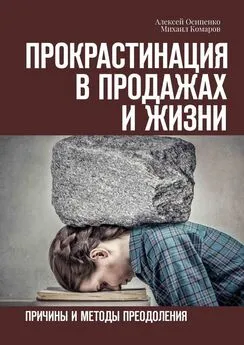Михаил Кауфман - Пробелы в уголовном праве: понятие, причины, способы преодоления
- Название:Пробелы в уголовном праве: понятие, причины, способы преодоления
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Юрлитинформ
- Год:2007
- Город:Москва
- ISBN:978-5-93295-272-6
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Михаил Кауфман - Пробелы в уголовном праве: понятие, причины, способы преодоления краткое содержание
Для научных работников, студентов, аспирантов, преподавателей юридических вузов и факультетов, а также судей, других сотрудников правоприменительных органов, иных практикующих юристов.
Пробелы в уголовном праве: понятие, причины, способы преодоления - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Само же Уложение 1903 г. было введено в действие, по выражению П.И. Люблинского, в худшей своей части [523] См.: Труды восьмого съезда русской группы международного союза криминалистов / Вестник права и нотариата. 1911. № 36. С. 1094.
. Оно действовало параллельно с Уложением 1885 г., что вызывало ряд сложных, порой трудно разрешимых вопросов юридического толкования. Благодаря отсутствию четкой границы между сферами их действия часто нарушался принцип «nullum crimen sine lege» [524] См.: Люблинский П.И. Двойственность уголовного законодательства и вопросы толкования / Право. 1916. № 8. С. 507.
. В своей особенной части Уложение содержало явные пробелы. На это обстоятельство обращали внимание многие современники уложения. Так, например, А.Ф. Кони указывал, что уложение 1903 г., несмотря на затраченный 20-летний труд, оказалось далеко не полным и в нем были не предусмотрены такие деяния, как спекуляция, утонченные виды лихоимства, вовлечение в проституцию и ряд других [525] См.: Кони А.Ф. Ближайшие задачи уголовного законодательства / Журн. Мин. юстиции. 1917. № 2. С. 29.
.
Само же отношение русской дореволюционной уголовно-правовой науки к проблеме аналогии было неоднозначным. Подавляющее большинство ее представителей относились к допущению аналогии отрицательно, причем как в законодательстве, так и в судебной практике.
Один из виднейших русских криминалистов XIX века В. Спасович в своем учебнике уголовного права, отличающимся глубоким научным содержанием, определял свое отношение к классическому принципу следующим образом: «Всякое преступление есть посягательство на общественное устройство, а общественное устройство опирается на закон положительный. Отсюда следует, что никто не должен подлежать ответственности уголовной за злодеяние, которое не обозначено в уголовном законе положительным. Это правило выражается в латинской юридической пословице, превратившейся в аксиому: «nullum crimen, nulla poena sine lege» [526] Спасович В. Учебник уголовного права. 1863. Т. 1. С. 69-70.
. Причем, в отличие от большинства его современников — западноевропейских криминалистов, Спасович развивал свои взгляды по этому вопросу, исходя не только из формального взгляда на преступление, но учитывая также и его материальное содержание. Поэтому он допускает существование деяний и не предусмотренных законом, которые представляются не меньшим злом, чем преступления, предусмотренные законом; такие деяния, по его мнению, являются безнравственными, но не преступными. При этом Спасович различал два вида деяний, непредусмотренных законом. Одни из них относятся к числу таких, которые совершенно пропущены в законе. Вред от безнаказанности такого рода деяний он видит в том, что «на первый раз такое злодеяние оставлено будет без взыскания, но это упущение может быть тотчас исправлено законодателем изданием нового закона» [527] Там же. С. 70-71.
. Другие же деяния из числа пропущенных в законе являются лишь видами таких преступлений, которые обозначены в кодексах в родовых чертах: «... в каждом кодексе, если и пропущены некоторые виды, то всегда обозначены главные роды правонарушений, под которые преступник может быть подведен» [528] Спасович В. Учебник уголовного права. 1863. Т. 1. С. 70-71.
.
Сходная точка зрения по этому вопросу и у Н.С. Таганцева. Высказываясь отрицательно относительно возможности применения аналогии, Таганцев рассматривал последнюю как способ пополнения недостатка закона, под которым он понимал отсутствие закона, которым данное деяние воспрещается под угрозой наказания. В случаях же неполноты уголовного закона, означающей, что деяние запрещено законом, но в его описании имеются пробелы, его позиция была более гибкой. «Если закон воспретил какое-либо деяние, то учинивший таковое должен понести установленное наказание: судья должен установить все признаки состава подобного деяния, хотя бы законодатель ограничился только его наименованием, хотя бы для установления его состава пришлось обратиться не к аналогичным статьям уложения, даже не к общему смыслу закона, а исключительно к воззрениям доктрины; подобные пробелы могут и должны быть пополнены судом» [529] Таганцев Н.С. Русское уголовное право Лекции. Часть Общая. М., 1994. Т. 1. С. 96-97.
. Таким образом, Н.С. Таганцев фактически допускал, в определенных случаях, не только аналогию закона, но даже и аналогию права.
Среди других русских криминалистов, отрицательно относившихся к аналогии, следует упомянуть И.Я. Фойницкого, Н.А. Неклюдова, Г.Е. Колоколова, А.Ф. Кистяковского, Н.Д. Сергеевского, С.В. Познышева.
Но были и те теоретики уголовного права, кто допускал отступление от принципа «nullum crimen, sine lege» в пользу аналогии. Среди них можно выделить, например, В.В. Есипова, Б.С. Белогриц-Котляревского, А.Ф. Кони. Два последних автора занимали по этому вопросу наиболее принципиальную позицию.
Б.С. Белогриц-Котляревский рассматривал деятельность суда как деятельность правотворческую, и полагал, что это является неизбежным последствием несовершенной природы закона «не способного ни уловить все жизненные перемены, ни обнять все жизненные интересы», вследствие чего применение аналогии является совершенно необходимым [530] См.: Белогриц-Котляревский Б.С. Творческая сила обычая в уголовном праве Юрид. Вестник Моск. Юрид. об-ва. 1891. T. VII. Кн. 2. С. 218-219.
.
А.Ф. Кони отношение к вопросу о допустимости применения аналогии выразил в своем известном выступлении по делу о злоупотреблениях в таганрогской таможне. «Современная жизнь представляет собой столько особенностей и новых, подчас безотрадных явлений, что закон будет всегда отставать от «последнего слова» в проявлениях преступной воли. На наших глазах родился и возрос шантаж, неведомый прежде, как определенное преступление, наша уголовная хроника содержит такие изощрения разврата по отношению к малолетним, которые не были предусмотрены нашим уложением. Значит ли это, что бессовестный развратитель детей или шантажист, устанавливающий новый современный вид рабства, должны оставаться безнаказанными. Конечно, нет. И в уложении найдется и находится закон, который по своим основаниям, по своей цели, по общим свойствам описываемого в нем преступного деяния — одним словом, по своему разуму — обнимает еще прямо не заклейменные, но, несомненно, преступные действия» [531] Кони. А.Ф Судебные речи. С. 620.
.
В первом советском Уголовном кодексе 1922 года принцип «nullum crimen, sine lege» признания не получил, как чуждый советскому уголовному праву. «В основу кодекса, — по словам наркомюста Д.И. Курского, — был положен принцип оставления места для народного правотворчества предоставлением суду права в известных случаях вносить коррективы» [532] Известия В ЦИК РСФСР. 1922. № 21.
. В соответствии с этим в кодекс была включена ст. 10, которая устанавливала: «В случае отсутствия в Уголовном кодексе прямых указаний на отдельные виды преступлений, наказания или меры социальной защиты применяются согласно статьям Уголовного кодекса, предусматривающим наиболее близкие по важности и роду преступления, с соблюдением правил Общей части сего кодекса».
Интервал:
Закладка: