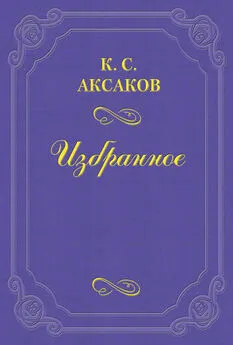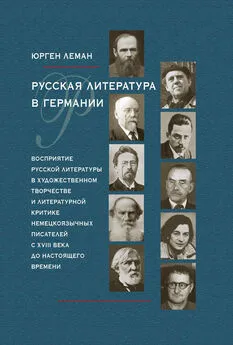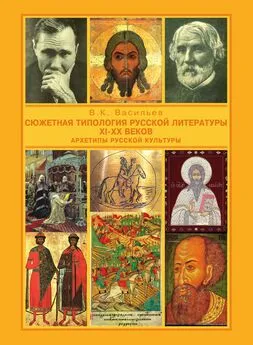Петер Ханс Тирген - Amor legendi, или Чудо русской литературы
- Название:Amor legendi, или Чудо русской литературы
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Литагент Высшая школа экономики
- Год:2021
- Город:Москва
- ISBN:978-5-7598-2244-8, 978-5-7598-2328-5
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Петер Ханс Тирген - Amor legendi, или Чудо русской литературы краткое содержание
Издание адресовано филологам, литературоведам, культурологам, но также будет интересно широкому кругу читателей.
Amor legendi, или Чудо русской литературы - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Разумеется, читателю не стоит обманываться насчет степени осведомленности о поэтике аркадского топоса тех, кто упоминает его вот так, вскользь. Цитированные выше и многие подобные им формулы нередко содержат намеренно клишированный или ироничный подтекст, при помощи которого авторы сообщают своим читателям: «Смотрите-ка, и нам знакомы идиллические топосы, и мы на короткой ноге с Аркадией, подобно великим предшественникам» [1110]. Еще Пушкин предостерегал от манерной поэтической буколики à la Гесснер, поскольку ей недостает простоты, правдивости и свободы античной идиллии [1111]. Пушкин обладал чутьем на всякого рода словесные штампы, вот почему он, как отмечено выше, избегал понятия «аркадский».
Откровенно ироничная интерпретация Аркадии возникает в России достаточно рано. Около 1790 г. лирик и драматург Я.Б. Княжнин написал комедию в стихах под названием «Чудаки», в которой «просвещенный» слуга призывает своего застенчивого и восторженного господина оставить «чепуху ‹…› сладких слов» и плюнуть на «селадонство». Идиллической «робости романныя беремя» «было хорошо ‹…› в проказны времена аркадских пастушков», теперь же царят иные нравы, и можно без околичностей, т. е. без «сладких слов» и «пастушеских свирелей» переходить к делу. Юный дворянин, примечательно именующийся Приятом, изрядно сбит с толку такими советами, а в конце пьесы «современный» слуга делает вывод, что так или иначе все люди чудаки («Что всякий, много ли иль мало, но чудак») [1112]. Отзвук этого эпизода мы находим в комедии А.Н. Островского «Таланты и поклонники» (первое издание в 1882 г.), в которой влюбленный господин пишет своей возлюбленной стихи и, оправдываясь, замечает, что и он «в Аркадии родился» [1113].
Известную ироническую пикантность придал мотиву Аркадии и уже упомянутый нами Карамзин. В 1797 г. он напечатал стихотворную «жалобу» некоего пастушка под названием «Отставка»: пастушка Хлоя наставила рога своему пасторальному дружку, что не совсем соответствует штампованным представлениям о гендерных отношениях в «аркадском» тексте. Однако обманутый пастушок шокирован меньше, чем можно было бы полагать: он утешается предположением, что за другим кустиком его уже ждет другая подружка, и размышлением о скоротечности и конечности земного бытия:
Итак, смотри в глаза мне смело;
Я, право, Хлоя, не сердит.
Шуметь мужей несносных дело;
Любовник видит – и молчит;
Укажут дверь – и он с поклоном
Ее затворит за собой;
Не ссорясь с новым Селадоном,
Пойдет… стихи писать домой.
Я жил в Аркадии с тобою
Не час, но целых сорок дней!
Довольно – лучший соловей
Поет не долее весною ‹…› [1114].
«Полноты счастья» лирический персонаж Карамзина ищет не в умеренности, а в принципе variatio delectat [1115]: в результате Аркадия становится пространством мимолетных амурных похождений. Некогда существовавший аркадский постулат постоянства и добродетели, питаемых непреходящей надеждой на счастье, здесь оказывается совершенно развенчан, а вместо сетований на бренность бытия появляется позитивное мировоззрение «все не так уж плохо». Несколько более сдержанно, но вполне в духе рококо с анакроентическим оттенком упоминает об «аркадских утехах» и поэт Гаврила Державин в стихотворении «Аристиппова баня» (1811).
С самого начала концепт «Аркадия» в России оказывается хрупким. Поэтов, подобных Саннадзаро, д’Юрфе или Гесснеру в России не было. Даже там, где сначала появляются положительные, пусть даже клишированные образы, камнем преткновения в большинстве случаев становится reservatio mentalis [1116], скептическое представление об относительности или двусмысленности образа Аркадии. Хотя использование семантической и образной концептосферы понятия «Аркадия» служит доказательством эрудиции и владения «языком формул» идиллии, сами эти формулы становятся объектом иронической или фривольной интерпретации. С середины XVIII в. в рукописных списках начали распространяться тексты поэта И. Баркова, которые придавали пасторальной литературе характер откровенной порнографии и воспевали смелые гимны Приапу [1117]. Хлоя, Дафнис или Селадон становятся в России скорее моделями, нежели персонажами, с которыми может идентифицировать себя читатель. Эта двусмысленность является результатом запоздания русской рецепции Аркадии вообще; кроме того, она обязана влиянию, которое на русский концепт Аркадии оказали Пуссен и Шиллер.
III. Смерть в Аркадии: Пуссен и Шиллер
Смерть как таковая есть явление неизбежное. Она повсеместна, неотвратима, окончательна и часто случайна. Артур Шопенгауэр заметил: «Таким образом, все существует лишь мгновение и спешит навстречу смерти. ‹…› Смерть косит неустанно» [1118]. Свидетельством того, что мир полон смерти и страданий, всегда были войны, преступления, природные катастрофы, эпидемии и другие несчастья, в которых бедствие являет себя открыто, грубо и с беспощадным драматизмом. Первородное владычество Смерти вызвало к жизни многочисленные сквозные сюжеты живописи – от жестоких батальных сцен до символического dance macabre , «танца смерти».
Аркадско-идиллический код описания реальности можно интерпретировать как попытку преодолеть страх смерти или по крайней мере смягчить его, придав образу Аркадии характер оберега. Но реальность смерти не останавливается перед идиллией, и живопись отреагировала именно на этот факт: в европейской живописи существует традиция, которая вписывает Смерть в идиллический мирообраз, однако делает это без особого драматизма и скорее опосредованно: смерть напоминает о себе предостережением «Et in Arcadia ego».
Известность этой сентенции принесли картины Гверчино и Никола Пуссена, на которых пастухи, изображенные на фоне аркадских ландшафтов, рассматривают надгробные камни и саркофаги с надписью «Et in Arcadia ego». Соответствующая символика полотна Гверчино дополнена черепом мертвеца и изображениями мыши и совы как анималистических символов смерти. Однако интерпретация смысла этих картин, особенно полотна Никола Пуссена, двойственна [1119]: она зависит от того, как понимать, кто подразумевается под личным местоимением «ego» – или это покоящийся под надгробным камнем бывший обитатель Аркадии, или сама Смерть. Если это умерший, то он, возможно, хочет сказать, что когда-то он был счастлив в Аркадии и что всем людям дано при жизни насладиться всей полнотой аркадских чувств. Если же «ego» указывает на Смерть, мы имеем дело с безжалостным напоминанием memento mori ! Смерть торжествует всегда и повсюду, даже в Аркадии. В этом отношении любая идиллия мнима. Независимо от того, подразумевается ли под «ego» всего лишь один конкретный мертвец, тема смерти присутствует как «экзистенциальная риторика» [1120]. Вполне возможно, однако, и то, что картина Пуссена может быть интерпретирована в обоих смыслах, и тогда послание смерти и аркадское блаженство приходят к некоему синтезу [1121].
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: