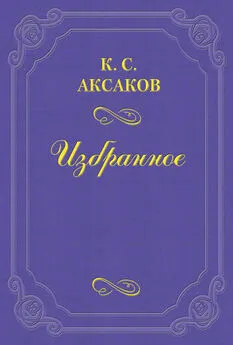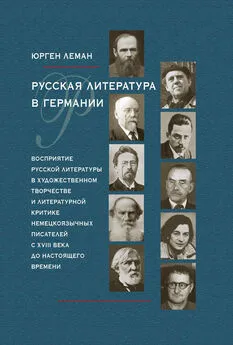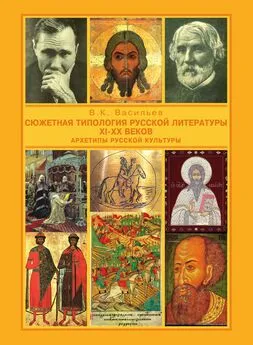Петер Ханс Тирген - Amor legendi, или Чудо русской литературы
- Название:Amor legendi, или Чудо русской литературы
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Литагент Высшая школа экономики
- Год:2021
- Город:Москва
- ISBN:978-5-7598-2244-8, 978-5-7598-2328-5
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Петер Ханс Тирген - Amor legendi, или Чудо русской литературы краткое содержание
Издание адресовано филологам, литературоведам, культурологам, но также будет интересно широкому кругу читателей.
Amor legendi, или Чудо русской литературы - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
3. Николай Гоголь
В том же 1829 г. дебютирует Н.В. Гоголь, и начинает он свое литературное поприще именно с опыта в жанре идиллии. Его первое произведение, поэма «Ганц Кюхельгартен», имеет подзаголовок «Идиллия в картинах». Ганц Кюхельгартен грезит об идеальной Греции, но его поиски заканчиваются утратой иллюзий, поскольку эта Греция больше не существует. Рядом с Ганцем Кюхельгартеном героиня по имени Луиза Баух [1146]. На своем ассоциативном плане оба имени содержат идею бездуховной пошлости посюстороннего мира, которая явно далека от идеализированной Греции времен Дафниса и Хлои. «Идиллия» насквозь обманчива. «Прекрасная душа» находится в опасности, ей угрожает «зло», «горнего мира» больше не существует, человек вынужден считаться с разочарованием и постепенной упадком, который закончится «руинами», «могильным холодом» и «адскими мученьями». В любой момент могут восторжествовать «бренность», «суета» и «бездна». Рядом с «тихим миром мечтаний» гнездятся «коварные мечты», и ни родина, ни чужбина не гарантируют счастья. «Как непонятен человек» – восклицает рассказчик (I, 99). Мотивы двойственности и загадочности человека, впервые прозвучавшие в дебютном тексте Гоголя, впоследствии стали доминантой всего творчества писателя, сделавшего своей темой скрытое за мнимой идиллией дьявольское искушение и тем самым задавшего русской литературе ее лейтмотивный тон. К слову сказать, в десятой картине поэмы речь идет о «своенравном Шиллере», а эпилог завершается гимном Германии и «великому Гёте». Но что именно Гоголь хотел этим сказать, покрыто мраком неизвестности.
Попробовав себя в поэзии, Гоголь обращается к прозе, сначала отдавая предпочтение сельским ландшафтам Малороссии. Они особенно подходили для семиотической аллюзии на Аркадию. Возьмем в качестве примера повесть «Старосветские помещики» из напечатанного в 1835 г. сборника «Миргород». Герои повести – пожилая супружеская пара помещиков, которых зовут Афанасий и Пульхерия, – живут в «мирном уголке» или «благословенной земле» (II, 11) и ведут там «буколическую жизнь» (II, 14). Во всяком случае, так воспринимает их жизнь якобы простодушный рассказчик, уверенный в том, что в этой кажущейся столь мирной уединенности повсюду царят покой, благообразие, скромность, доброта и чистосердечие. Обоих стариков он сравнивает с «Филемоном и Бавкидой» (II, 15). Но все же с самого начала повествования в его речи появляются слова-вставки с семантикой относительности, такие как «можно сказать», «казалось» или «как будто». «Буколическую жизнь» он называет «скромной» или «низменной». Его утверждение о том, что жизнью мирного уголка правят «гармонические грезы», указывает на принципиальную амбивалентность ситуации. Русское слово «греза» семантически многозначно и может быть переведено на немецкий как «Traum, Wunschtraum, Trugbild, Gefasel» [1147]. Таким образом, оно обозначает нечто воображаемое или нереальное, то, что может существовать только в обманчивом мире фантазий. Поскольку рассказчик не всеведущ, эти предательские выражения вкрадываются в его речь скорее невольно и между прочим. Что же касается Гоголя, то он виртуозно манипулирует нарративом, по видимости разводящим точки зрения повествователя и автора, но в сущности позволяющим опытному читателю увидеть точку зрения автора в структуре речи повествователя.
При внимательном чтении вскоре становится совершенно очевидно, что повесть рисует мнимую идиллию. Мы видим не «простую, скромную» жизнь, а мелочный эгоизм вперемежку с чревоугодием и жаждой наслаждения: «…ужасно жрали все в дворе» (II, 21). Героями правит смертный грех чревоугодия ( luxuria/akolasia ), который к тому же творится не по дионисийским законам, а бессмысленно и автоматически. Челядь и управляющие крадут и присваивают деньги везде, где только могут: они совершают «страшные хищения». Чревоугодию и воровству сопутствует блуд постоянно пьяных кучеров и кухарок, имеющий своим результатом появление многочисленных внебрачных детей. «Филемона и Бавкиду», напротив, отличают бесплодие и бездетность: петли на двери в их спальню поют «самым тоненьким дискантом», как у евнуха, а «пистоли» Афанасия Ивановича «давно уже заржавели» (II, 26). В мнимой идиллии царит отнюдь не невинно-естественная буколическая любовь, но вытесненная сексуальность и похоть. Символом последней становится одичание серенькой кошечки, которая, к ужасу Пульхерии Ивановны, ударилась в бега и «свыклась с хищными котами» («кот» и «кошка» были в России эвфемизмами слов «сводник» и «гулящая девка»). В пропаже кошки Пульхерия Ивановна ошибочно видит дурной знак. Она внушает себе, что скоро умрет и действительно вскоре умирает, но прежде под угрозой проклятия берет со своей ключницы слово, что та будет заботиться о вдовце Афанасии Ивановиче. Если ключница этого не сделает, то никогда не получит «благословения божия». Афанасий Иванович со своей стороны реагирует на смерть Пульхерии Ивановны детской отрешенностью и «бесчувственными слезами» (II, 33). Его жизнь отныне все чаще сводится к простому «марионеточному бытию» с «охладевшим сердцем». Как и Пульхерия Ивановна, он поддается иррациональному зову смерти, вера в который действительно сводит его в могилу через несколько лет. В мнимой идиллии царят инфантилизм и суеверие, а не достоинство, подобающее подлинно верующим людям солидного возраста.
Чревоугодие, похоть, эгоизм, глупость (глуповатая болтовня Афанасия Ивановича), неспособность печалиться, мотив мух (черт как «повелитель мух») и многое другое сигнализирует о дьявольски-атеистическом мире, сердцевина которого скрыта за «идиллической» поверхностью. Идентичные отчества Иванович и Ивановна свидетельствуют о том, что оба «героя» одинаково лишены индивидуальности, и их история – это история «любого». Перед нами не мирная и сдержанная идиллия, но узнаваемая даже по природоописаниям оранжерея скрытых грехов и пороков. Огражденность и мнимая безопасность идиллического аркадского мира находится под угрозой враждебных сил, которые – вопреки сбивающим с толку утверждениям рассказчика – прыгают «внезапно в растворенное окно» и тем самым обеспечивают доступ «злому духу» (II, 13). Так и «кроткая кошечка» перепрыгнула через изгородь и пропала в «большом лесу», соблазненная «хищными котами».
Жадность, алчность, механическая инерционность персонажей, их бездумность и марионеточная зависимость от кукловода не могут создать идеал идиллического существования. Вопреки семантике их имен Афанасий Иванович не является «бессмертным», а Пульхерия Ивановна не олицетворяет ни «прекрасной души», ни воскресения [1148]. Их смерти нисколько не драматичны, поскольку они еще при жизни стали «мертвыми душами». Смерть выступает как запоздалое следствие жизни, а не как трагическая перипетия, и в данном случае напоминание о ее неотвратимости «Et in Arcadia ego» знаменует не естественный исход бытия, а недостойную пошлость зла. Сам рассказчик констатирует, что смерть Пульхерии Ивановны произошла «от самого маловажного случая». Причина и следствие гротескно диспропорциональны: подобная несоразмерность в эпоху романтизма (и не только) была одним из дефинитивных признаков эстетической категории ужасного.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: