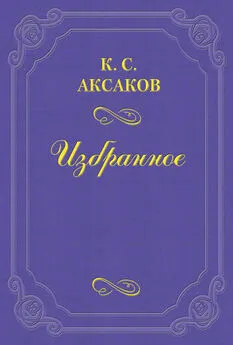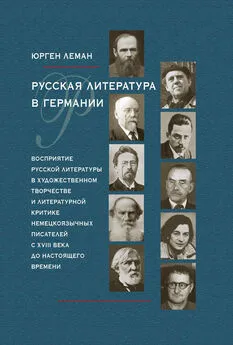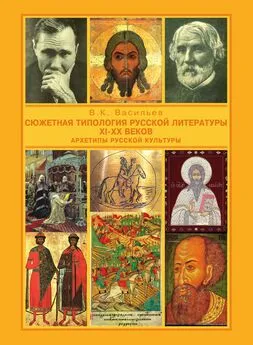Петер Ханс Тирген - Amor legendi, или Чудо русской литературы
- Название:Amor legendi, или Чудо русской литературы
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Литагент Высшая школа экономики
- Год:2021
- Город:Москва
- ISBN:978-5-7598-2244-8, 978-5-7598-2328-5
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Петер Ханс Тирген - Amor legendi, или Чудо русской литературы краткое содержание
Издание адресовано филологам, литературоведам, культурологам, но также будет интересно широкому кругу читателей.
Amor legendi, или Чудо русской литературы - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Устойчивый триединый ансамбль «аркадский пейзаж – надгробный камень – изречение “Et in Arcadia ego”» начиная с XVIII в. появляется и в России. Самым известным его воплощением, вероятно, была карамзинская одноактная сцена «Аркадский памятник», опубликованная в 1789 г. в журнале «Детское чтение» [1122]и являющаяся переводом «сельской драмы» Кристиана Феликса Вейссе «Das Denkmal in Arkadien» (1782). Сюжет ее сводится к тому, что старый пастух воздвигает надгробный камень с надписью «И я был в Аркадии» для своей дочери Дафны, которую считает погибшей. Но счастливое стечение обстоятельств сохранило Дафне жизнь и невинность, она вновь встречается со своими родными, и этот happy end предсказывает «истинно аркадскую жизнь». В конце старый пастух и хор предостерегают, что человек всегда лишается внешней Аркадии, но если она живет в сердце и душе, ее можно сохранить надолго [1123]. Надгробный камень был поставлен преждевременно, однако он становится напоминанием о хрупкости нашей жизни – это явствует как из эксплицитной аллюзии текста Кристиана Вейссе на известный сюжет картины Пуссена, так и из хорошего знакомства Карамзина с этим сюжетом [1124].
Вскоре после публикации перевода из Вейссе появилась знаменитая повесть Карамзина «Бедная Лиза» (1792), повествующая о настоящей смерти в трагико-мелодраматической манере, столь типичной для сентиментализма. История простой сельской девушки, совращенной, а затем цинично покинутой московским дворянином-соблазнителем и от отчаяния совершившей самоубийство, вписана в прекрасный, истинно аркадский ландшафт: таким образом, даже «прекрасная душа» (как гласит текст повести) на лоне прекрасной природы все время находится под угрозой смертельного рока, а на фоне пасторальной сцены в духе русской буколики о несчастной судьбе Лизы напоминают лишь ее могила и ветхая хижина. Мечты о «свободном аркадском счастье» оказались иллюзией [1125]. В России прекрасно-природное оказывается фикцией, поскольку добродетель принесена в жертву пороку, а заклинание beatus ille qui procul negotii s [1126]теряет всякий смысл. Следовательно, у Карамзина могила как повод для сентиментально-элегического воспоминания не только ассоциируется с представлениями о мнимой могиле в аркадском убежище – она еще и вполне реальна, поскольку напоминает о трагической смерти.
Вслед за Карамзиным сюжеты, в которых среди аркадских пейзажей появляются надгробные камни с надписью «Et in Arcadia ego», используют и другие русские писатели. Так, в 1810 г. поэт Константин Батюшков печатает небольшое стихотворение под названием «Надпись на гробе пастушки». Надпись сообщает, что умершая некогда «жила в Аркадии счастливой» и «любовь в мечтах златых» ей «счастие сулила», но в конце «в сих радостных местах» ее ждали лишь смерть и могила. Это пророчество неизбежного финала – таков имплицитный смысл стихотворения – должны принять близко к сердцу все беззаботные жители Аркадии [1127]. Критика справедливо соотнесла это стихотворение с сюжетом полотна Пуссена – так же, как и тексты Карамзина. Подобная комбинация прекрасного ландшафта, надгробного памятника и призыва memento mori , становятся в XIX в. сквозным мотивом русской литературы, и не только лирики. В качестве примеров можно назвать роман Пушкина «Евгений Онегин», романы Гончарова или финал романа Тургенева «Отцы и дети».
Этот вариант русского образа Аркадии можно суммарно описать следующим образом: вездесущность и неотвратимость Смерти компенсируется аркадским ландшафтом и сопричастностью к аркадскому бытию – пусть даже эта сопричастность скоротечна или вообще уповательна. Постулаты «прекрасного в природе» и аркадского прекраснодушия еще не совсем сомнительны, так что несмотря на все напоминания о бренности бытия, они не теряют своего утопического потенциала [1128]. Даже «жестокий соблазнитель» в карамзинской «Бедной Лизе» показан в конце повести как кающийся грешник, чья скорбь о необдуманном поступке преждевременно сводит его в могилу. Финал повести гласит, что Лиза и ее обидчик «теперь, может быть ‹…› уже примирились!». И даже если в Аркадии следует постоянно помнить о конечности бытия, все же в ней остаются элегически-сентиментальные якоря спасения, за которыми скрывается представление о «приятности грусти» [1129].
Русский скепсис в отношении Аркадии с самого начала нашел себе подтверждение у авторитетнейшего свидетеля, а именно у Шиллера в его стихотворении «Resignation» («Отречение», первопубликация в 1786 г.). Оно начинается с многократно цитированной строфы:
И я на свет в Аркадии родился,
И я, как все кругом,
Лишь в колыбели счастьем насладился;
И я на свет в Аркадии родился,
Но сколько слез я лил потом [1130].
Лирическим сюжетом стихотворения является процесс утраты иллюзий. Лирический герой закончил свой путь: «О, Вечность жуткая, стою ‹…› у входа твоего. ‹…› О счастье я не ведал ничего» (строфа 3). Ценой отречения в настоящем земном мире он надеялся обеспечить себе полноту счастья в вечном будущем. Он намеревался отказаться от преходящего наслаждения во имя блаженного «бессмертия». Но в действительности, как он предчувствует, эта видимость обмена оказывается обманом, поскольку всякая природа – это «вялый труп» (строфы 9 и 16), обманывающий людские надежды на будущую награду. Кто не успел прожить (т. е. насладиться) «здесь и сейчас», уже никогда не будет жить, и уж с наименьшей вероятностью после смерти: «Мертвец не встал, могила не открылась» (строфа 14 в русском переводе). Обещание счастья в потустороннем будущем – иллюзия, а питаемое верой ожидание счастья есть не что иное, как самообман. Шиллер видит выход в том, чтобы лирический герой познал мучительную истину: надежда и наслаждение существуют только как альтернатива, как выбор «или – или»:
Есть два цветка – Надежда, Наслажденье,
И мудрый выберет один из двух.
Избрав один, другим не соблазняйся
‹…›
Надеявшийся награжден не мало, –
Награду вера всю в себе несет.
‹…›
Что у тебя Минута отобрала,
То никакая Вечность не вернет [1131].
Впоследствии Шиллер заметил, что его стихотворение направлено не против добродетели как отречения вообще, но скорее против «религиозной добродетели», которая побуждает человека к некорректной сделке в его надеждах компенсировать отказ от земных наслаждений наградой в мире ином [1132].
В стихотворении варьируются извечные, по сути дела, вопросы: может ли затяжная отсрочка быть своего рода сублимацией действительного счастья? Является ли «плотское счастье» испытанием веры, или это элементарное естественное право? Может ли дать удовлетворение акт отречения от надежды? Действительно ли чувство долга и страсть противоречат друг другу? Следует ли понимать «наслаждение» только лишь как область чувственного или оно способно быть духовным? Немало вопросов остается без ясного ответа. Неоспоримо лишь одно: «Мысль о равновесии между посюсторонним и потусторонним решительно отвергается» [1133]. Аркадия есть лишь потерянная мечта, утонувшая в «мумии времен» (строфа 12 в русском переводе). В середине 1790-х годов в своей статье «О наивной и сентиментальной поэзии» Шиллер приходит к выводу, что для человека «…нет уже возврата в Аркадию» [1134].
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: