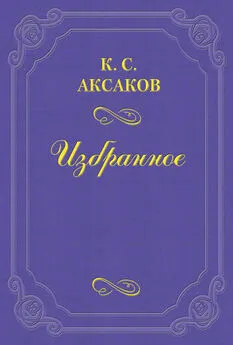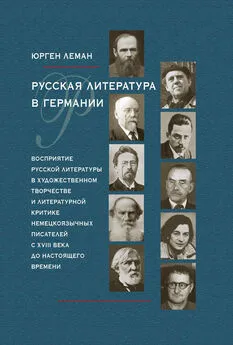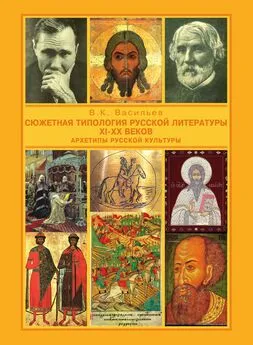Петер Ханс Тирген - Amor legendi, или Чудо русской литературы
- Название:Amor legendi, или Чудо русской литературы
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Литагент Высшая школа экономики
- Год:2021
- Город:Москва
- ISBN:978-5-7598-2244-8, 978-5-7598-2328-5
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Петер Ханс Тирген - Amor legendi, или Чудо русской литературы краткое содержание
Издание адресовано филологам, литературоведам, культурологам, но также будет интересно широкому кругу читателей.
Amor legendi, или Чудо русской литературы - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Прежде всего сцена Чехова вызывает аналогию с «Прологом в театре», в котором дискутируется вопрос о том, должна ли поэзия – т. е. в данном случае театральная поэзия – иметь высокую цель, или ей достаточно непритязательности развлекательного зрелища. Директор театра настаивает на том, что спектакль должен быть «рагу», т. е. окрошкой, сварганенной на скорую руку из всякой всячины («Насуйте всякой всячины в кормежку // Немножко жизни, выдумки немножко, // Вам удается этот вид рагу» – и тогда «…всякий, выбрав что-нибудь из смеси, //Уйдет домой, спасибо вам сказав» (II, 11). Именно такое рагу предлагает Нюхин в своей лекции «о вреде табака» (ср. сквозной мотив еды и кухни в ассоциативной мешанине его речи). В свою очередь, и Вагнер сообщает Фаусту, что «…много значит дикция и слог» (II, 27) [480]. Именно такую декламацию Фауст предпринимает в своих обширных экспозиционных монологах, исполненных отчаяния, вопрошающих об основах мироздания и о его великом единстве («порядке и согласье»), провозглашающих стремление навсегда вырваться из «…конуры, // Где доступ к свету загражден» и из того мира, где все «…рвань, изъеденная молью» (II, 22, 30). Бунт Фауста очевидно направлен против земных благ и обладания – и не в последнюю очередь «…То это дом, то дети, то жена» (30). После заключения договора с Мефистофелем Фауст признается: «Чьей жертвою я стану, все равно мне» (II, 62) [481]. Стремясь к освободительному бегству, предпочитая дело слову, Фауст сознает, что в его груди живут две души. Он хочет освободиться от статики земной жизни, но Мефистофель резонно возражает ему: «Ты – то, что представляешь ты собою» (II, 64) [482]. Подчиниться или восстать – вот в чем вопрос. И что станет наградой мятежнику?
Эта экспозиция трагедии «Фауст» может послужить изумительной амальгамой к выступлению Нюхина. Нюхин – это попавший под залп чеховской иронии провинциальный Фауст; в его лице огромные масштабы фаустианско-прометеевского бунта низведены до мещанского мира подбашмачника, мира пошлости и духовного оскудения. Его речь – это контаминация выродившихся до степени маразма двух монологов Фауста – первого, выходного («Я богословьем овладел, // Над философией корпел»; II, 21–24) и второго, предшествующего попытке самоубийства («Я, названный подобьем божества…»; II, 29–32). И если Фауст, чье знание универсально, поскольку оно охватывает четыре фундаментальные отрасли науки его времени (так называемый квадривиум: богословие, философию, юриспруденцию и медицину), ломает голову над экзистенциальными вопросами человеческого бытия, то и Нюхин – своего рода универсалист, поскольку он должен не только преподавать в пансионе для девочек «…математику, физику, химию, географию, историю, сольфеджио, литературу и прочее», но и заведовать хозяйственной частью: «…закупать провизию, проверять прислугу, записывать расходы, шить тетрадки, выводить клопов, прогуливать женину собачку (что за восхитительная антитеза к «черному пуделю» Фауста! – П. Т. ), ловить мышей…» и проч. (С., XIII, 192). «Духовными узами», как в трагедии Гёте, здесь и не пахнет. Нюхин справедливо видит в себе «дурака» и «ничтожество», что тоже может быть интерпретировано как своего рода редукция мотива дураков и дурацкого мира в трагедии «Фауст».
Но и в груди Нюхина живут две души, он тоже бунтует, стремится вырваться и сбежать из своего жизненного круга [483], он ненавидит низменную подлость существования, он чувствует, что есть иные, высшие сферы; подобно Фаусту, он обращает свои ламентации к лунному свету и, вполне вероятно, мысли о самоубийстве терзают его так же, как и Фауста [484]. Однако в финале он капитулирует иначе, чем это делает Фауст – он не меняет платье, напротив, он снова надевает свой фрак, ему ничего не нужно «…кроме покоя… кроме покоя!» (С., XIII, 194), и его бунтовской потенциал исчерпан чисто теоретическим возмущением (ср. слова Мефистофеля: «Теория, мой друг, суха»; II, 72): в финале у Нюхина поджилки трясутся, его пресловутый фрак – это скорее дешевая униформа кельнера, нежели вечернее платье [485], а фаустовская «Бутыль с заветной жидкостью густою» (II, 31) [486]умаляется у чеховского героя до «одной рюмки» (С., XIII, 194). Те времена, когда Нюхин «считал себя человеком» (С., XIII, 194), канули в прошлое. Фауст, напротив, возглашает: «Как человек, я с ними весь: // Я вправе быть им только здесь» (II, 38) [487].
Бунтарь Фауст осуществляет акт самосознания на фоне дьявола – капитулянт Нюхин постоянно существует на фоне жены («муж своей жены»; II, 190). Если это не договор с дьяволом, то все же согласие на роль подбашмачника, но здесь нелишне вспомнить о том, что в русской литературе еще со времен Гоголя образ женщины легко принимает на себя дьявольские коннотации. С другой стороны, Нюхин остается верен своей Ксантиппе, чего не скажешь о Фаусте в отношении Гретхен. И кто же тогда сокрушен по-настоящему? И кто в конце концов остается «сверхчеловеком» (II, 25), а кто – «жалким идиотом» (С., XIII, 194)? Кто истинная жертва и «закоснелый невольник»? И здесь Чехов ставит вопросы, но не дает на них окончательных ответов.
Великое творение Гёте, образ Фауста и образ мира, оказались контрафактным способом пересажены на сценическую площадку русской провинции. Полифония «Фауста» претворилась в трагикомический моноспектакль саморазоблачения перед изумленными зрителями. Нюхин – хочет он этого или не хочет – являет собой полную картину духовного и морального ораторского эксгибиционизма, и в этом своем качестве он оптимально соответствует чеховскому повествовательному идеалу: скрытой пародийно-травестийной игры смыслами. Нюхинский лепет водит за нос его самого, его слушателей и читателей чеховской сценки подобно тому, как Фауст «водит за нос» своих учеников (II, 21). Речь Нюхина это не обломки крушения грандиозного вероисповедания, как выходной монолог Фауста, но плачевные трагикомичные откровения на грани лалофобии. «И пес с такой бы жизни взвыл!» (II, 21) – заметим, кстати же, что музыкальное училище нюхинской жены находится не где-нибудь, а в Пятисобачном переулке (С., XIII, 193)! Черт преследует Нюхина повсюду: он гнездится в кухне (ср. в «Фаусте» сцену «Кухня ведьмы»), за кулисами – в виде собственной его жены, в ее собачке, в мышах и насекомых [488], в травестийном переодевании, наконец, в ругательствах «сатана» и «чучело», которыми его осыпает жена [489]. Дьявольщина таится в банальности мучительных будней. Утешая себя поговоркой «Но нет худа без добра» в одной из ранних редакций сцены (С., XIII, 311), Нюхин заставляет читателя вспомнить самохарактеристику Мефистофеля: «Часть силы той, что без числа // Творит добро, всему желая зла» (II, 50). И даже такие реалии как табак, химия и, разумеется, латинские цитаты имеют свои аналогии в начальных эпизодах «Фауста». Таким образом, многие детали повествования позволяют увидеть в образе Нюхина своеобразное «убогое величие» – в парадоксальной антиномии его жалкой фигурки на фоне колоссальной фигуры Фауста. В перспективе же нашего исследования остается еще один реминисцентный сквозной мотив экспозиционных эпизодов трагедии Гёте – повторяющиеся образы «маски» и «маскарада».
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: