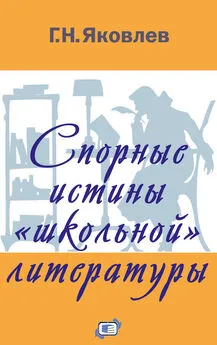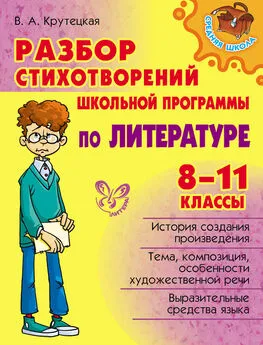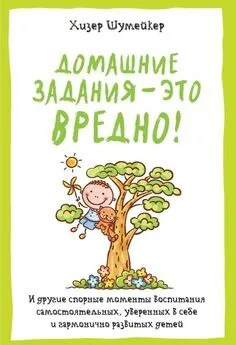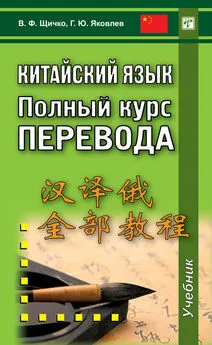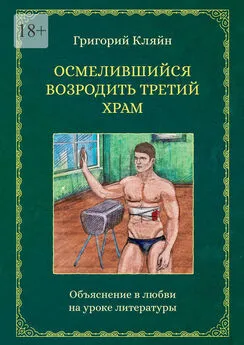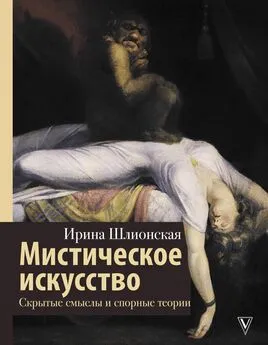Григорий Яковлев - Спорные истины «школьной» литературы
- Название:Спорные истины «школьной» литературы
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Литагент ТеревинфDRM
- Год:2016
- Город:Москва
- ISBN:978-5-222-17954-3
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Григорий Яковлев - Спорные истины «школьной» литературы краткое содержание
Вошедшие в книгу эссе публиковались в журнале «Литература в школе», газете «Литература», «Учительской газете», «Литературной газете» и др. и вызвали живой отклик со стороны учителей и литературных критиков. В настоящем издании наиболее значимые публикации впервые собраны вместе и, при необходимости, доработаны.
Для преподавателей средних учебных заведений, методистов, студентов педвузов, а также для всех неравнодушных к отечественной классической литературе.
Спорные истины «школьной» литературы - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Но в том-то и заслуга автора, и ценность пьесы, что в ней точки над i не поставлены, оставлен на десятилетия или на века простор для споров, суждений, толкований. Это еще не социалистический реализм. Определение типа утешителя, которое дает Горький в статье «О пьесах», вряд ли применимо к Луке, но оно, как и его высказывание в 1928 году, приводимое ниже, созвучно духу времени, когда газетные страницы злобно кричали о «классовых врагах», «вредителях», проповедовали ненависть, беспощадность, непримиримость, и этим духом проникался гуманист по натуре Максим Горький. В 1928 году во время посещения Советского Союза, отвечая на митинге сормовичам, писатель сказал о Луке: «…Он – жулик. Все люди, которые пытаются утешить и примирить непримиримое, – жулики…»
Тем не менее Горький, повторюсь, не переделывает пьесу, как он поступал, например, с «Вассой Железновой», «Последними», «Фальшивой монетой», с очерком «Владимир Ильич Ленин» и другими произведениями, а решил напрочь отречься от своей лучшей пьесы: «„На дне“ – пьеса устаревшая и, возможно, даже вредная в наши дни» (1932 год). Чем же она вредна? Быть может, слишком хорош «неполучившийся» Лука, и широкие массы чего доброго примут его идеи в государстве безбожников? Когда-то Блок записал в дневнике: «Большевики правы, опасаясь „Двенадцати“». Горький же предупредил большевиков: опасайтесь моей пьесы, она вредна! Кому?
Этому настоянию драматурга, слава Богу, не вняли, пьесу не запретили, но авторская характеристика Луки, данная в 1932 году, на многие годы определила направление мысли литературоведов и трактовки образа Луки в учебниках – с учетом еще одного высказывания Горького о главном вопросе пьесы: «…Что лучше – истина или сострадание? Что нужнее?» Причем лжецом и жуликом, по уверениям писателя, был, конечно, Лука, то есть должен был быть. И сдают мне бескомпромиссные школьники сочинения, нелогично, но упорно противопоставляя истину состраданию, сопереживанию.
А каким он должен был быть, Лука? Не потому ли он неоднозначен, что и сам Алексей Максимович в ту пору (девяностые годы XIX века – начало XX века) не столь прямолинейно решал политические и философские вопросы и образ Луки явился следствием и воплощением каких-то глубинно назревавших и своеобразно трансформировавшихся идей?
Вот, например, аллегорическая история «О Чиже, который лгал, и о Дятле – любителе истины» (1893). Чиж вдруг запел «песни, исполненные не только надежд, но и уверенности». «До той поры все птицы, испуганные и угнетенные внезапно наступившей серенькой и хмурой погодой, пели песни… в них преобладали тяжелые, унылые и безнадежные ноты (в „На дне“: „Солнце всходит и заходит, а в тюрьме моей темно…“ – Г. Я. ), и птицы-слушатели сначала называли их хрипеньем умирающих, но потом понемногу привыкли (ночлежники в пьесе. – Г. Я. ) … Тон всему в роще задавали вороны, птицы по существу своему пессимистические…» Чиж звал к новой жизни, «идти вперед, уверовать в себя» и т. п. «И все птицы пели, и всем стало так легко, все чувствовали, что в сердцах родилось страстное желание жизни и счастья». Но тут заговорил Дятел: «Я питаюсь червяками и люблю истину… вас нагло обманывают… бесстыдная ложь… А спросите господина Чижа, где те факты, которыми он мог бы подтвердить то, что сказал? Их нет у него…» Ну прямо как в пьесе «На дне»: «Поманил, а дороги не указал». И вот Чиж посрамлен едоком червей, покинут всеми, и жизнь продолжает «течь куда-то мутным потоком», если употребить горьковское выражение.
«А Чиж остался и, сидя на ветке орешника, думал: „Я солгал, да, я солгал, потому что мне неизвестно, что там, за рощей, но ведь верить и надеяться так хорошо!.. Я же только и хотел пробудить веру и надежду – и вот почему я солгал… Он, Дятел, может быть, и прав, но на что нужна его правда, когда она камнем ложится на крылья?“» Аналогия с Лукой очевидна, хотя и не полна, даже последние слова Чижа перекочевали в пьесу и отданы Луке.
Возможно, кто-то скажет, что и здесь писатель обличает Чижа-Луку. Однако впоследствии Горький утверждал, что в образе Чижа отразились его мысли о социальном переустройстве жизни и чувство отчаяния от сознания собственного бессилия. Что же получается: Чиж – Лука – Горький? После спектакля С. Яблонский писал в 1902 году: «Спасибо Луке-Горькому за его лирическую поэму». Разумеется, никакой идентичности нет, и Алексей Максимович неизменно публично распинал Луку, но в пьесе – другое. Автор может не одобрять ход мыслей своего героя, может не любить этого персонажа, но он его создал, и герой живет уже своей жизнью, а читатели или зрители вольны воспринимать и толковать его по-своему. История литературы пестрит подобными примерами.
Случайно ли герой назван Лукой? Не намек ли это на двойственную роль его? В переводе с латинского Лука – «светлый», «светящийся». Это имя носил создатель одного из евангелий, врач, последователь и толкователь учения Христа. С другой стороны, это имя может ассоциироваться с понятием лукавства, неискренности, что и приписывал Горький своему персонажу в публичных выступлениях.
Лука, изображенный в пьесе, – не идеал человеческий, не образец, не святой, а такой же босяк, как и остальные ночлежники. За спиной у него и преступления (дважды бежал с каторги), и не слишком нравственное общение с женщинами («Я их, баб-то, может, больше знал, чем волос на голове было…»). Но он опытнее других, прошел огонь и воду, умен, добрее других, не столь обозлен ударами и уродством жизни. И дело в том, что при всей реалистической сути пьесы – произведения социально-бытового и философского – и несмотря на индивидуализацию характеров и речи, персонажи в известной мере условны, некоторые из них – рупоры определенных концепций, и особую значимость приобретают их высказывания, афоризмы, иногда – поступки. В первую очередь это относится к Луке.
Посмотрим же, в чем обвиняют или упрекают Луку литературоведы, методисты и учителя. Прежде всего во лжи. Возьмем учебники для 11-го класса. Под редакцией А. Дементьева: «Дело в том, что утешения Луки основаны не на правде, а на лжи… Ложь старика играет реакционную роль». Под редакцией В. А. Ковалева: «Всё это утешительная ложь». Примеры можно множить. А в чем солгал Лука? Бубнов в упор спрашивает старика: есть ли Бог? Лука отвечает: «Коли веришь – есть; не веришь – нет…» Одним критикам ответ кажется уклончивым, лукавым, другим – правильным. Ночлежники не стали возражать, но ответ произвел впечатление: Бубнов промолчал, а Васька Пепел (ремарка) «молча, удивленно и упорно смотрит на старика». Задумался. Солгал ли Лука? Нет. Ведь вера потому и называется верой, что она не требует доказательств. Отношение к Богу сугубо индивидуально. Верующий человек не сомневается в существовании Творца, атеист отрицает Его. Лев Толстой писал: «Надо определить веру, а потом Бога, а не через Бога определять веру…» («Исповедь»). И еще – запись в дневнике Толстого 23 ноября 1909 года по поводу пьесы «На дне»: «Есть ли тот Бог сам в себе, про которого я говорю и пишу? И правда, что про этого Бога можно сказать: веришь в него – и есть Он. И я всегда так думал». Бог – в душе человека. Иные полагают, что Горький, как революционер и атеист, осуждал «странника» за такой «неопределенный» ответ Бубнову. Однако в эти и последующие годы писатель и сам был увлечен поиском новой религии, «богоискательством», «богостроительством», чего не мог ему простить Ленин. И даже Ниловна (и не только она) в романе «Мать», уже вовлеченная в революционную деятельность, «всё больше думала о Христе и о людях, которые, не упоминая имени его, как будто даже не зная о нем, жили – казалось ей – по его заветам… Христос теперь стал ближе к ней…» А в своей «Исповеди» Горький призывал: «…Единый и верный путь ко всеобщему слиянию ради великого дела – всемирного богостроительства ради!»
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: