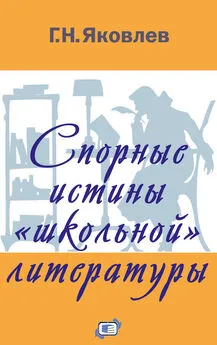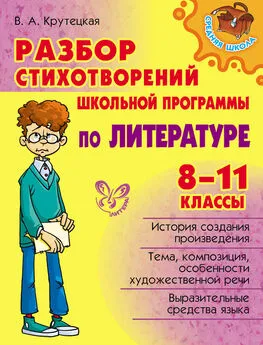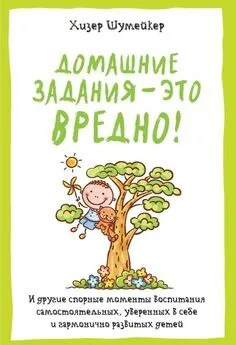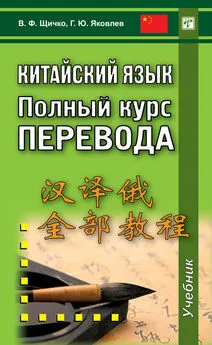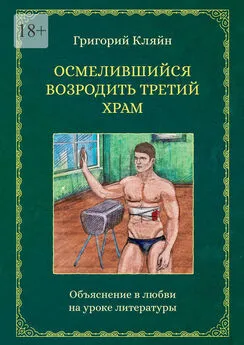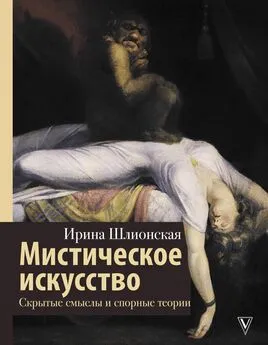Григорий Яковлев - Спорные истины «школьной» литературы
- Название:Спорные истины «школьной» литературы
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Литагент ТеревинфDRM
- Год:2016
- Город:Москва
- ISBN:978-5-222-17954-3
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Григорий Яковлев - Спорные истины «школьной» литературы краткое содержание
Вошедшие в книгу эссе публиковались в журнале «Литература в школе», газете «Литература», «Учительской газете», «Литературной газете» и др. и вызвали живой отклик со стороны учителей и литературных критиков. В настоящем издании наиболее значимые публикации впервые собраны вместе и, при необходимости, доработаны.
Для преподавателей средних учебных заведений, методистов, студентов педвузов, а также для всех неравнодушных к отечественной классической литературе.
Спорные истины «школьной» литературы - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Впрочем, соединение христианства и социализма было свойственно и русским революционным демократам XIX века.
Его послал бог Гнева и Печали
Рабам земли напомнить о Христе, —
писал Некрасов в стихотворении «Пророк», посвященном Чернышевскому.
Так что формулировка Луки вряд ли могла покоробить Горького в 1902 году, и не стоит к ней придираться.
Осуждая утешительство Луки (а это один из главных пунктов обвинения), критики традиционно следуют за горьковской самооценкой тридцатых годов: «Именно таким утешителем (то есть вредоносным. – Г. Я. ) и является Лука» (учебник Л. И. Тимофеева). «Проповеди рабского смирения и служит его утешительная ложь» (учебник А. Дементьева). Слово «утешитель» уподобилось красному платку, вызывающему бешеную злобу быка. А между тем Утешителем именовал себя Иисус Христос ( см. Евангелие от Иоанна, гл. 14). Там же Утешителем Христос называет Духа Святого. Почему драгоценные человеческие качества – доброта, сочувствие, сострадание, стремление помочь людям, утешить их – стали мишенью многолетних нападок литературоведов и пропагандистов? К сожалению, источник надо искать всё в тех же выступлениях и поздних статьях писателя. Что сказано, то сказано. А сказано было следующее: «…Владимир Ленин решительно и навсегда вычеркнул из жизни тип утешителя, заменив его учителем революционного права рабочего класса». Что и говорить: Ленин не был утешителем; сколько замечательных людей он и его наследники «вычеркнули из жизни», провозгласив отказ от морали в политике!
Я могу еще как-то понять тех, кто в сталинские времена не решался в своих исследованиях отступить от догм категорически заявленной Горьким концепции. Но в наше-то время что мешает переоценке? Да, Лука – добрый человек, говорит несчастным людям ласковые слова, утешает в беде, помогает; и люди, истосковавшиеся по человеческому отношению, заботе, сами просят, чтобы их утешили.
Наташа. Господи! Хоть бы пожалели… хоть бы кто слово сказал какое-нибудь! Эх вы…
Лука. Человека приласкать – никогда не вредно… Жалеть людей надо! Христос-то всех жалел и нам так велел…
Здесь нет ни лицемерия со стороны Луки, ни унижающей жалости. Не тот случай. И вообще-то говоря, неужели уж так вредна жалость? Равнодушие или жестокость лучше? «Не жалеть… не унижать его жалостью… уважать надо!» – патетически возглашает Сатин. Да кто же, если не Лука, единственный в ночлежке, по-настоящему уважает униженных и оскорбленных не им людей (но не Костылева, не Василису, не полицейского Медведева, о которых говорит с презрением или с иронией)? Он не раз напоминает: «всякого человека уважать надо» – и поступает соответственно. Не жалеть, не утешать, держать в ежовых рукавицах – это по-сталински, по-ежовски. А хорошая поэтесса Юлия Друнина пожаловалась в стихотворении: «Кто б меня, унизив, пожалел…» Пожалел бы – может, и не покончила бы самоубийством мужественная женщина, прошедшая войну. Простой народ, говоря иногда: «Я его жалею», имеет в виду другое – «люблю».
Относиться к людям по-божески – принцип Луки; человек, «каков ни есть – а всегда своей цены стоит»; «если кто кому хорошего не сделал, тот и худо поступил». Прекрасные мысли, верные слова!
Перейдем к другим обвинениям, брошенным Луке. Он якобы обманул перед смертью Анну, он виновен в самоубийстве Актера. Анна умирает, идут последние минуты ее жизни. Клещ, ее муж, вместо помощи и сочувствия, поглощая пельмени, предназначенные ей, бормочет: «Ничего… может – встанешь… бывает!» И, сказав это, уходит (ремарка). Вот где ложь и равнодушие, приписываемые Луке! Клещ успокаивает Анну так же лицемерно, как Иудушка в «Господах Головлевых» утешал умирающего брата: «Встань да и побеги! Труском-труском…» А что говорит страдающей Анне Лука? «А Господь взглянет на тебя кротко-ласково и скажет: знаю я Анну эту! Ну, скажет, отведите ее, Анну, в рай! Пусть успокоится… знаю я, жила она – очень трудно… очень устала… Дайте покой Анне…» Что может сказать верующий человек умирающему? Естественно, он обращается к Богу и повторяет азы христианского учения о загробной жизни. Признать это ложью – значит признать ложным религиозное мировоззрение. Но оставим это занятие коммунистическим пропагандистам. Лука искренен. От утешения Анны ему никакой выгоды – счет идет на минуты. Из воспоминаний М. Ф. Андреевой о первом чтении пьесы: «Горький читал великолепно, особенно хорошо Луку. Когда он дошел до сцены смерти Анны, он не выдержал, расплакался».
Всё, что касается судьбы Актера, требует более обстоятельных объяснений, ибо это ставят в вину Луке почти все учебники. Учебник В. В. Агеносова: «Горький же через судьбу Актера уверяет (каков стиль! – Г. Я. ) читателя и зрителя в том, что именно ложная надежда может привести человека к петле». Старик, желая помочь людям подняться со «дна», найти себя, вернуться к нормальной жизни, сообщает Актеру, что есть в России лечебницы, где бесплатно лечат алкоголиков: «…Ты пока готовься! Воздержись… возьми себя в руки и – терпи… А потом – вылечишься… и начнешь жить снова… хорошо, брат, снова-то!» Чистый сердцем Актер верит, перестает пить, копит деньги на дорогу. Но разрушить мечту и веру слабохарактерного человека ничего не стоит. И «образованный» безжалостный Сатин, шулер, пьяница, убежденный бездельник и циник, дважды рубит с плеча: «Фата-моргана! Наврал тебе старик… Ничего нет! Нет городов, нет людей… ничего нет» Злобная чушь! «Врешь!» – кричит Актер. Но через некоторое время Сатин в присутствии Актера гнет свое: «Старик! Чего ты надул в уши этому огарку?» Это уже крах. Вдобавок Лука никак не может «вспомнить» адреса больницы. Актер вешается. Лука не мог назвать адресов (вспомним Чижа), но он много бродил по Руси, много видел, о многом слышал и говорил обо всём в меру своей осведомленности. И ведь не врал! Я читал, что в эти годы в России по крайней мере три лечебницы бесплатно занимались алкоголиками. Что и говорить о Москве, где издавна существовал целый ряд благотворительных заведений. Вот фрагмент из книги очерков M. H. Загоскина «Москва и москвичи» (1842–1850).
– А это также дворец? – сказал Дюверние, указывая на Голицынскую больницу.
– Нет, это больница…
– А это что за великолепное здание? – спросил он через полминуты.
– Больница.
– Ого? – прошептал француз ‹…› – Три больницы, похожие на дворцы, и все три почти сряду!.. – шептал путешественник.
– Есть недалеко отсюда и четвертая… И в других частях города есть странноприимные дома и больницы, ничем не хуже этих.
Бесплатные больницы для рабочих были при фабриках Саввы Морозова, например в Шуе. Больница для неимущих, в которой служил отец Ф. М. Достоевского, находилась на Божедомке в Москве. Там и сейчас институт туберкулеза и больница. Нынешняя 23-я больница до революции бесплатно лечила чернорабочих. Всегда бесплатно обслуживала население Первая Градская больница. Этот перечень неполон. Выходит, что врал-то не Лука, а Сатин. И прояви Актер волю и терпение – жизнь его могла сложиться иначе.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: