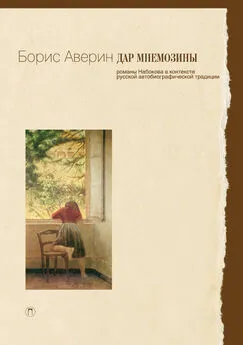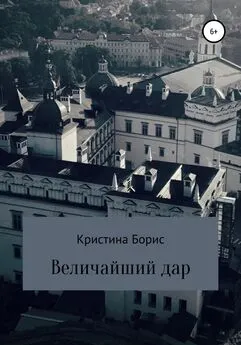Борис Аверин - Дар Мнемозины. Романы Набокова в контексте русской автобиографической традиции
- Название:Дар Мнемозины. Романы Набокова в контексте русской автобиографической традиции
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Литагент РИПОЛ
- Год:2016
- ISBN:978-5-521-00007-4
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Борис Аверин - Дар Мнемозины. Романы Набокова в контексте русской автобиографической традиции краткое содержание
Дар Мнемозины. Романы Набокова в контексте русской автобиографической традиции - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Свое страдание и свое счастье Гумберт несет как некое бремя, освобождения от которого не наступает ни при соединении с Лолитой, ни при убийстве соперника. Это бремя, эта неразрешаемая проблема – метафизического свойства. Именно метафизического, а не философского. По поводу философии Гумберт явно иронизирует, вспоминая «заботливый гегельянский синтез» ( А II, 373) – дающий умственный комфорт, но не разрешающий экзистенциальных проблем. В этом выпаде герой Набокова совпадает и с Кьеркегором, и с Шестовым.
Как кажется, ситуация Кьеркегора вообще более всего близка к той, в которую поставлен Набоковым Гумберт. Тайный физиологический изъян, неизбежно присущий его личности, ставит его vis a vis не с громко провозглашенной свободой, но с неизбежностью. Герой воспринимает свое преступление как метафизическое – а потому и отрицает очевидную юридическую вину и, напротив того, возлагает на себя другую вину, в которой мог бы и не быть уличен. И если Гумберт ведет свое повествование в манере «косвенного высказывания» – то так же ведет его и Набоков, не предъявляя и не выпячивая метафизическую проблематику романа, камуфлируя ее всеми возможными средствами. Поскольку она не вполне очевидна, не броска, попробуем слегка акцентировать ее.
Как уже говорилось, набоковские сюжеты постоянно свидетельствуют о том, что человеку не дано знать всего жизненного сюжета, в котором он выступает центральным лицом. Он идет через лабиринт событий собственной жизни с устрашающе малой степенью осведомленности о целом, о связях этого целого. Вопрос о «существовании Высшего Судии» ( А II, 346) оказывается, собственно говоря, ничуть не сложнее, чем вопрос о будущем какой-нибудь нимфетки, которая вообще никогда не узнала, как глядел на нее Гумберт.
Гумберт, однако, отличается от персонажей ранних романов. Ему ведомо его неведение, он понимает, что не узнает, как отразился его порок на судьбе тех нимфеток, мимо которых он проходил, и он мучается этим незнанием («О, это было и будет предметом великих и ужасных сомнений!» – А II, 31). Но мучения Гумберта иные, чем, например, у слепца в романе «Камера обскура». С разницей между ними двумя и связана метафизическая тема «Лолиты». Место физической слепоты заступает осознанная героем, но оттого ничуть не менее неизбежная метафизическая слепота.
Незнание целого и есть та по-набоковски проинтерпретированная форма Необходимости, которая властвует над человеком, становясь Роком, но ускользая от сознания. Герой мечтает устроить «нечаянную» смерть жены – не зная, что «маклер судьбы» уже припас именно этот вариант. Он готовится предстать на суде, не зная, что смерть назначена ему еще до суда. Он напряженно думает о будущем Лолиты, не зная, что ей остается жить считанные недели. В этих тщательно отмеренных датах смерти – почти пародийно подчеркнутая условность, «выдуманность», иллюзорность текста. И в них же – вся безусловность сюжета.
С другой стороны, в знании Гумберта о своем незнании – еще одна причина, по которой его речь строится как «непрямое высказывание». Строго говоря, только таким и может быть высказывание в мире неизбежно не познанных связей.
Одна деталь контрастно отличает поэтику «Лолиты» от описанной Шестовым поэтики «непрямого высказывания» Кьеркегора. Насколько тщательно укрыт Кьеркегором исходный факт его экзистенциальных переживаний, настолько же откровенно предъявляет читателям свой порок Гумберт. Кажется, что в этом пункте он высказывается «прямо» и определенно, по имени называя ту Необходимость, которой он обречен. Гумберт-автор пишет чистосердечную и, как ему кажется, правдивую исповедь.
Это исповедь в двух частях, им соответствуют введенные в повествование «Экспонат Номер Первый» ( А II, 17) – история Анабеллы («Пралолиты» [427]) и экспонат «номер два» ( А II, 54) – дневник Гумберта, в котором рассказана история его отношений с Лолитой.
Экспонат «номер два» – записная книжечка в черном переплете – будет предъявлен только в одиннадцатой главе. Впрочем, самого экспоната, как выясняется, нет: книжечка была потеряна пять лет тому назад, и содержание ее Гумберт восстанавливает по памяти. Казалось бы, способность восстановить день за днем события весьма давние – свидетельство силы его памяти. Но Набоков вводит метафору, заставляющую усомниться в точности воспроизведения: оно – «щуплый выпадыш из гнезда Феникса» ( А II, 54).
Пытаясь ответить на вопрос, зачем он пишет воспоминания, Гумберт точно знает, что делает это не для того, чтобы заново пережить прошлое. Ему необходимо отделить «чудесное» от «чудовищного», ангельское от дьявольского. Воспроизводя в памяти свою жизнь, он как будто бы глядит в некую смутную даль, восстанавливает реальность, находящуюся за пределами его личного существования.
Иногда это ощущение выражается непосредственно. Так, описывая увиденный в заповеднике след динозавра, Гумберт говорит: след отпечатался там «тридцать миллионов лет тому назад, когда я был ребенком» ( А II, 195). Воспоминание ведет еще дальше – к видениям рая до грехопадения и после грехопадения, к образам Лилит, Адама, Евы. Все комментаторы в этой связи указывают на Лолиту с «великолепным, банальным, эдемски-румяным яблоком», «пожирающую свой незапамятный плод» ( А II, 75, 77). Библейская тема грехопадения подана здесь более чем прозрачно.
При первой встрече с Лолитой герой испытал «толчок страстного узнавания», ибо узнал в ней Анабеллу, и четверть века без нее «сузилась, образовала трепещущее острие и исчезла» ( А II, 53). Не четверть века, а века исчезли, когда Лолита полностью заменила Анабеллу, ибо Лолита была его «древней мечтой» ( А II, 59). В конце романа, акцентируя такое исчезновение времени, Гумберт говорит, что Лолита – его «любовь с первого взгляда, с последнего взгляда, с извечного взгляда» ( А II, 330).
История Адама и Евы в необычном, «кинематографическом», иронически-сниженном изображении пересказывается, когда, воображая, как он будет ласкать Лолиту, Гумберт сообщает, что он «податлив, как Адам при предварительном просмотре малоазиатской истории, заснятой в виде миража в известном плодовом саду» ( А II, 91). Одно из высших наслаждений, испытанных Гумбертом, полагающим, что он наблюдает за нимфеткой в окне соседнего дома, тоже соотнесено с библейской темой и передано тоже кинематографически, только изображение дается, как если бы пленка двигалась в обратном направлении: «…и Ева опять превращалась в ребро, которое опять обрастало плотью, и ничего в окне уже не было, кроме наполовину раздетого мужлана…» ( А II, 324).
Подобный эпизод уже был описан в начале романа (см.: А II, 30–31), но там речь шла только об ошибке Гумберта, принявшего мужчину за прекрасную девочку. Возникая вторично, эпизод наполняется неоднозначными смыслами. Гумберт пишет, что от «совершенства огненного видения становилось совершенным» и его «дикое блаженство – ибо видение находилось вне досягаемости, и потому блаженству не могло помешать сознание запрета, тяготевшее над достижимым» ( А II, 323). Пусть Гумберт пережил оптический обман – но испытанное им чувство было действительным, подлинным, и его глубина оказалась связанной с отсутствием запретов.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: