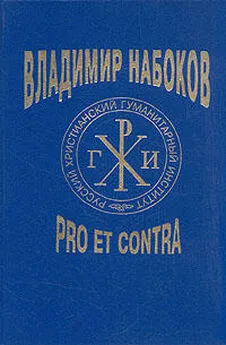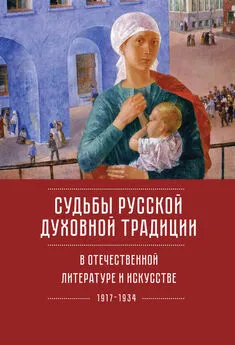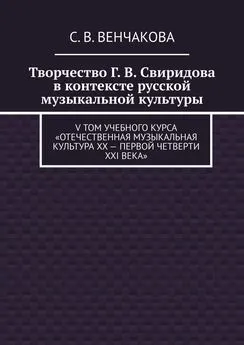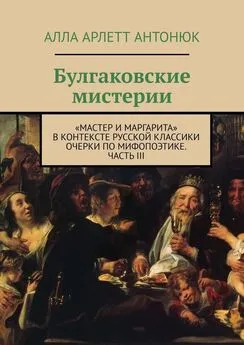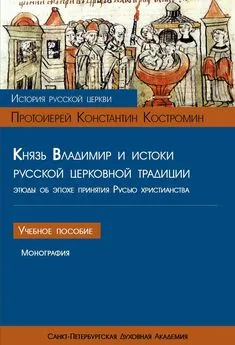Борис Аверин - Дар Мнемозины. Романы Набокова в контексте русской автобиографической традиции
- Название:Дар Мнемозины. Романы Набокова в контексте русской автобиографической традиции
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Литагент РИПОЛ
- Год:2016
- ISBN:978-5-521-00007-4
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Борис Аверин - Дар Мнемозины. Романы Набокова в контексте русской автобиографической традиции краткое содержание
Дар Мнемозины. Романы Набокова в контексте русской автобиографической традиции - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
И снова рядом с героем появляется авторское «Я». Повествователя зовут Владимир Владимирович. Его соотношение с автором достаточно точно, на наш взгляд, описано А. Люксембургом и С. Ильиным: «Постепенно <���…> повествователь приобретает все более ощутимое сходство с самим Набоковым, а в главе 7 становится персонажем того же текста, в котором действует его герой. <���…> Всякому, кто прочел роман, очевидно, что на самом деле Владимир Владимирович лишь очень похож на реального Набокова, но не эквивалентен ему. Набоков как бы раздваивается у нас на глазах: с одной стороны, он отчасти контролирует изнутри текст, по отношению к которому выступает одновременно и в роли повествователя, и в роли персонажа; с другой – стопроцентно контролирует его извне. Это игровое раздвоение и становится главным повествовательным трюком в романе» [459].
В процитированном описании неточна, пожалуй, только последняя фраза. То, что здесь названо «повествовательным трюком», является, на наш взгляд, сложнейшим внутренним заданием. Соположение «Я» с разными формами alter ego, с которыми «Я», отчуждаясь от них, никогда не рвет внутренних связей – эта поэтика прежних романов сменяется в «Пнине» введением собственно «Я», а не какого-либо из его двойников, «я», которое в то же время не равно «Я» [460].
Заметим, что и здесь Набоков следует Пушкину, выводя себя рядом с Тимофеем Пниным подобно тому, как Пушкин выводил собственную персону рядом с Онегиным. В обоих случаях автор утверждает, что он дружен с героем (ср. у Пушкина: «Условий света свергнув бремя, / Как он, отстав от суеты, / С ним подружился я в то время. / Мне нравились его черты…» [461]).
Но обратим внимание на то, что полным своим именем и отчеством Пушкин назвал себя рядом с Онегиным лишь в получивших почти хрестоматийную известность, но не предназначавшихся для печати стишках на картинки к «Евгению Онегину» в «Невском Альманахе»: «Вот перешед чрез мост Кокушкин, / Опершись <���– - – > о гранит, / Сам Александр Сергеич Пушкин / С мосье Онегиным стоит…» [462]. История возникновения этих стихов Набокову была хорошо известна, он рассказывает ее в комментарии к «Евгению Онегину». В начале ноября 1824 г., готовя издание первой главы «Онегина», вышедшее из печати в 1825 г., Пушкин послал брату Льву рисунок, на котором изобразил себя рядом с Онегиным. Он просил брата найти «искусный и быстрый карандаш», который воспроизвел бы в качестве иллюстрации именно эту сцену [463]. Однако в издании 1825 г. иллюстрация не появилась, и лишь в 1829 г. в «Невском альманахе» была опубликована серия иллюстраций к «Евгению Онегину» из шести гравюр, выполненных А. Нотбеком. Одна из них воспроизводила пушкинский рисунок – но изменила его композицию, которой Пушкин дорожил. «Лодка лишилась паруса; с правого краю добавились листва и фрагмент чугунной ограды Летнего сада; Онегин, уже в просторной, отороченной мехом шинели, стоит, едва касаясь парапета рукой; его приятель Пушкин, развернувшись с любезным видом к читателю, скрестил на груди руки» [464]. Между тем на пушкинском рисунке поэт изображен спиной к читателю – но с чертами несомненного портретного сходства, в частности – с темными кудрями до плеч, какие Пушкин носил в конце 1819 года, в Петербурге и позже, в 1821–1823 гг. в Кишиневе [465](но не в 1824 г., когда был сделан рисунок).
Уже в первой главе «Онегина» поэтический текст сопровождался прозаическими примечаниями, которые вступали в сложную систему взаимодействий и соотнесенностей со стихами. Авторское «Я» в поэтической и прозаической части выступало по-разному. «Документальные» сведения, в частности, сведения о собственной родословной, помещались в примечания – за пределы поэтического текста, хотя и в сопряжении с ним. Набоков, впрочем, как мы уже говорили, обнаружил и в этой, «документальной», части элементы литературной игры. Иллюстрация, задуманная Пушкиным, явно была ориентирована на это соотнесение поэтической и прозаической частей романа. Поэт изображен на ней рядом с героем – зрительный образ призван служить «убедительным доказательством» их реальной дружбы (а заодно и реальности героя). Но «убедительное доказательство» нарочито не доведено до конца. Фигуры собеседников даны в таком ракурсе, что служат как бы неточным отражением друг друга. Поэт позаботился о собственном портретном сходстве (и был им доволен: «хорош» – записал он о своем изображении под картинкой) – но развернул себя спиной, так что подлинного лица не видно, и, таким образом, лишал зрителя последнего доказательства того, что здесь изображен «Александр Сергеич Пушкин» собственной персоной. Нотбек развернул фигуру поэта лицом к зрителю – и лишил замысел его главного смысла. Тогда-то и появились стихи Пушкина, насмешливо «документирующие» его личное появление рядом с героем. «Сам Александр Сергеич Пушкин», представ анфас, с именем, отчеством и фамилией, с почти нецензурной грубостью вытеснил тот легкий, неуловимый контур, тот поэтический ракурс, в каком был воплощен лирический герой стихотворного эпоса.
Набоковский «трюк», как видим, основательно подготовлен Пушкиным, поэтикой «Евгения Онегина», в которой авторское «Я» и лирично, и автобиографично, и документально, и осязаемо, и неуловимо. То же касается и неповиновения героя автору, которое подчеркивают в «Пнине» А. Люксембург и С. Ильин.
Но заметим и разницу. При всей вариативности форм авторского присутствия в «Онегине», эти формы в известных пределах регламентированы. Один модус авторского поведения допустим в поэтическом тексте, другой – в примечаниях, третий – в вынесенных за пределы основного корпуса «одесских строфах», четвертый – в «околоонегинских» текстах: в стишках или в письме. Набоков же совмещает все формы авторской жизни в едином повествовательном потоке – и именно это бесконечно усложняет их проявление.
В «Пнине» у автора есть соперник и конкурент – имитатор Кокерелл, который в течение десяти лет передразнивает Пнина, его манеру говорить, двигаться, есть, читать лекции и т. д. На этом поприще Кокерелл добился виртуозного совершенства. Более того: «вялый, луноликий, невыразительный и белесый англичанин», он приобрел «безошибочное сходство» с человеком, которого передразнивал ( А III, 167). Значение последней седьмой главы романа определяется не только тем, что Владимир Владимирович появляется здесь собственной персоной, явившись преподавать в обжитой Пниным Вайнделл. Помимо этого «оплотнения» повествователя в седьмой главе происходит появление Пнина в подаче Кокерелла, которое определенным образом конкурирует с авторским изображением Пнина.
«Имитация была бесподобно смешной <���…>. Представление, повторяю, было блестящим», – рассказывает Владимир Владимирович о вечере у Кокерелла, тем не менее резюмируя рассказ тем, что вечер почему-то оставил в душе «подобие дрянного привкуса во рту» ( А III, 168–169, 170). Возможно, повествователю неприятна сама имитация как жанр?
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: