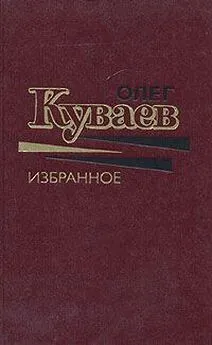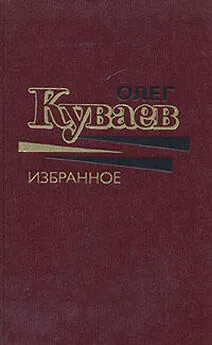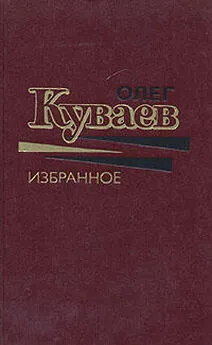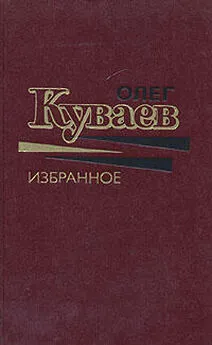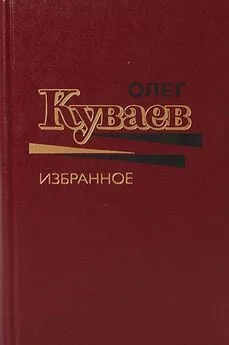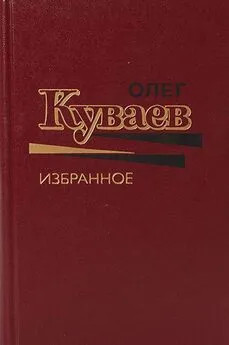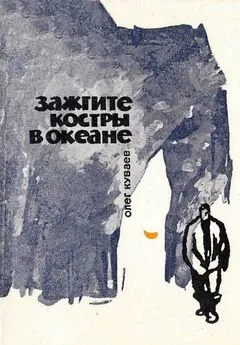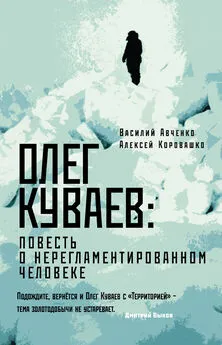Алексей Коровашко - Олег Куваев [повесть о нерегламентированном человеке] [litres]
- Название:Олег Куваев [повесть о нерегламентированном человеке] [litres]
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Литагент АСТ
- Год:2020
- ISBN:978-5-17-119911-1
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Алексей Коровашко - Олег Куваев [повесть о нерегламентированном человеке] [litres] краткое содержание
Олег Куваев [повесть о нерегламентированном человеке] [litres] - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Итак, настало время окончательно разобраться, что же именно обеспечивает Чинкову не только власть над людьми, но и способность даровать им желание жить, которое, безусловно, дорогого стоит. Вернёмся к «воле к власти» – категории, чьё содержательное наполнение мы уже частично обозначили ранее.
Стоит повторить, что воля к власти, которой наделён Чинков, отнюдь не равна стремлению начальницы отдела кадров или работницы ЖЭКа всласть поиздеваться над просителем. Не следует её трактовать и как наполеоновские амбиции пышноусого сверхчеловека – именно так в массовом сознании воспринимается понятие воли к власти в философии Фридриха Ницше.
Современный французский философ Люк Ферри дал интересную интерпретацию ницшевской «воли к власти», важную, на наш взгляд, для правильного истолкования личности Чинкова. «Воля к власти, – пишет Ферри, – не имеет ничего общего со вкусом к власти, с желанием занять какой-либо „важный“ пост. Речь идёт совсем о другом. Воля к власти – это воля к интенсивности, стремящаяся во что бы то ни стало избежать внутренних терзаний… которые по определению ослабляют нас, поскольку силы до такой степени нейтрализуют друг друга, что жизнь в нас чахнет и слабеет. А значит, речь идёт не о воле к завоеванию, к деньгам или к политической власти, а о глубоко внутреннем желании максимальной интенсивности жизни, которая не обеднялась и не ослаблялась бы этими терзаниями, а наоборот, была бы как можно более живой и энергичной. <���…> Воля к власти – это не воля к обладанию властью, а, как утверждает сам Ницше, „воля к воле“, воля, которая желает саму себя, жаждет своей собственной силы и не хочет, чтобы её ослабляли внутренние страдания, чувство вины, неразрешённые конфликты. Поэтому она реализуется только средствами „величественного стиля“, в таких жизненных моделях, которые позволяют наконец покончить со страхами, сожалениями и угрызениями совести…»
Но, это необходимо подчеркнуть особо, «величественный стиль» Чинкова, навязываемая им – и себе, и другим, – максимальная интенсивность жизни не являются выражением его индивидуального состояния, замкнутого и самодовлеющего. Если бы Чинков лишь упивался собственным величием, позволяя избранным греться в его лучах, он не стал бы Буддой, дарующим даже поселковым бичам уникальное чувство не напрасно проживаемой жизни. По большому счёту, Чинков – это мощный ретранслятор некой иной силы высшего порядка, вносящей осмысленность в повседневное человеческое существование. Хотя в «Территории» конкретные исторические эпохи накладываются друг на друга (позднесталинское время мирно соседствует с оттепельными шестидесятыми), правильно понять личность Чинкова и разгадать секрет его магического влияния на окружающих можно только вооружившись имперской «оптикой» послевоенного десятилетия. Обращение к ней вполне оправданно, поскольку оторвать Чинкова от той системы ценностей, которую с некоторой долей условности можно назвать «сталинистской», практически невозможно. Когда Куваев именовал главного прототипа Чинкова – Николая Ильича Чемоданова – «бериевцем по закалке», он отнюдь не стремился к эффектным фигурам речи, а пытался дать максимально точную характеристику этому незаурядному человеку. Не желая углубляться в социопсихологический этюд о сталинско-бериевской модели поведения, считаем верным привлечь к раскрытию специфики образа Чинкова роман Александра Терехова «Каменный мост», опубликованный в 2009 году, но посвящённый «величественному стилю» сталинской эпохи. Размышляя о мотивах, которые двигали её героями, безымянными или всенародно известными, Терехов приходит к выводу, что главным для них было «сохранить свою причастность к Абсолютной Силе, дававшую им сильнейшее ощущение… бессмертия». По мнению Терехова, «только по недомыслию можно сказать, что прожили они в оковах». «Они прожили со смыслом. Определённым им смыслом. И выпадение из него было большим, чем смерть, – космической пылью, Абсолютным Небытием, а про Абсолютное империя дала им чёткое представление. <���…> Сверхпроводимость – вот что они должны были исполнять и исполняли. Гони по цепи имперскую волю, не становись для неё преградой, а напротив, разгоняй и усиливай своим существом – это едино понимали и наркомы, и пехотинцы».
Не только наркомы и пехотинцы, добавим мы, но также главные геологи, начальники северстроевских управлений, простые шурфовщики и промывальщики. Как морской транспорт доставлял на Чукотку, отрезанную от Большой земли, необходимые грузы и продовольствие, так и Чинков ретранслировал своим подчинённым ту самую «имперскую волю», усиливая её личной харизмой.
В том, что именно такова персонажная функция Чинкова, сомнений нет. Однако говорить, что она идеально синхронизирована с другими элементами романной конструкции, увы, не приходится. Жизненная философия, усвоенная Чинковым, неизбежно оборачивается постоянным отрицанием и нейтрализацией достигнутых им успехов. Основной постулат этой философии Чинков формулирует в диалоге с Сидорчуком. «Самовлюблённый ты человек, товарищ Чинков. Пуп земли», – говорит ему Сидорчук. На что Чинков отвечает: «Я пуп Территории. В этом и есть моя сила. Меня отец так воспитал. Всегда стремиться на мостик, если ты даже трюмный матрос. Но стремиться за счёт своей силы. Гордый был у меня старик. Военно-морская школа».
Чинков, излагающий Сидорчуку своё жизненное кредо, безусловно искренен. Но если рассматривать его поступки через призму постоянного «стремления на мостик», то возникает некоторое противоречие: Чинков при всех его талантах и способностях всегда занимает место, условно говоря, «трюмного матроса». Для Монголова, Апрятина, Баклакова и других северстроевцев Посёлка он – капитан, возвышающийся над всеми на своём мостике. Однако для Робыкина, например, он всего-навсего «трюмный матрос», но только с непомерными амбициями и желанием подстрекать команду к бунту и полному захвату корабля. Если бы Чинков действительно следовал заветам отца, он бы никогда не останавливался на ранее достигнутой ступеньке карьерной лестницы: поднявшись вверх на один шаг, он бы уже спустя мгновение ощущал себя «трюмным матросом», испытывающим потребность подняться на очередной капитанский мостик. Перефразируя известное пушкинское стихотворение «К портрету Чаадаева», можно сказать, что в Риме Чинков был бы Брут, в Афинах Периклес, а в Посёлке он лишь главный инженер местного управления Северстроя.
Каким бы могущественным и харизматичным ни был Чинков, за ним всегда будет маячить призрак иной, более значительной силы – Государства. Подчеркнём: не советского, не государства рабочих и крестьян, а Государства как такового, не связанного какими-либо отношениями с Коммунистической партией. Утверждать это позволяет полное отсутствие в «Территории» типичных для советского производственного романа дифирамбов по адресу партийных чиновников: мудрых секретарей обкомов, честных руководителей низовых ячеек, всепроникающих своим быстрым разумом замполитов и проч. Единственным исключением, да и то частичным, является экскурс о Марке Пугине – основателе Посёлка. Но и в этом биографическом отступлении тема ВКП(б) и её волшебных излучений, вызывающих пассионарные мутации в живых организмах, напрямую не присутствует. Куваев только мимоходом замечает, что Пугин «единолично олицетворял советскую, партийную и прочую власть для севера Территории». Говоря же о той миссии, с которой Пугин, этот «специалист по национальному вопросу», сильно «напоминающий бородатого простодушного гнома в шинели», прибыл на Чукотский полуостров, Куваев полностью избегает лозунгов коммунистической выделки. Пугин, по его словам, стремился к «скорейшему и немедленному приобщению пастухов и морских охотников к европейской культуре и общему ритму страны». Легко догадаться, что такие же задачи могли быть поставлены и перед царским чиновником, и перед эмиссаром Временного правительства.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
![Обложка книги Алексей Коровашко - Олег Куваев [повесть о нерегламентированном человеке] [litres]](/books/1068511/aleksej-korovashko-oleg-kuvaev-povest-o-nereglame.webp)