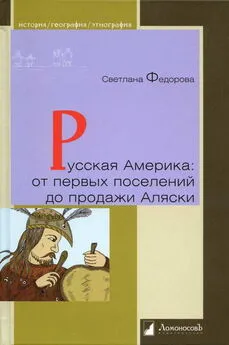Александра Баркова - Русская литература от олдового Нестора до нестарых Олди. Часть 1. Древнерусская и XVIII век
- Название:Русская литература от олдового Нестора до нестарых Олди. Часть 1. Древнерусская и XVIII век
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:РИПОЛ
- Год:2020
- Город:Москва
- ISBN:978-5-386-13658-1
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Александра Баркова - Русская литература от олдового Нестора до нестарых Олди. Часть 1. Древнерусская и XVIII век краткое содержание
Какова причина этого?
Отчасти, увы, школа, сделавшая всё необходимое, чтобы воспитать самое лютое отторжение. Отчасти – семья: сколько родителей требовали от ребенка читать серьезную литературу, чем воспитали даже у начитанных стойкое желание никогда не открывать ни Толстого, ни, тем более, Пушкина. Но есть и третья, более глубокая причина, которая кроется в художественных ценностях русской классики, и причина эта – в несовместимости литературы Золотого века с современным психотипом. Чтобы разобраться в этом, и нужен наш курс.
Русская литература от олдового Нестора до нестарых Олди. Часть 1. Древнерусская и XVIII век - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Карамзин представлялся историографом, и случались курьезы, когда слуги сообщали господам, что пришел «истории граф Карамзин». Что ж, любой приличный граф истории сначала собирает дань со своих владений, то бишь он раскапывает фактографию. Ипатьевская летопись – одна из главнейших русских летописей, найдена Карамзиным. Троицкая летопись – сгорела в пожаре 1812 года, но сначала ее Карамзин нашел и использовал. Судебник Ивана Грозного – нашел Карамзин. «Путешествие игумена Даниила» – Карамзин. Всего он использует около сорока летописей. Предыдущий историк Щербатов – двадцать одну. Почувствуйте разницу. Это была гигантская работа по поиску текстов. Еще из курьезов: кто-то из авторов хотел заняться тоже написанием исторического труда, так ему ответили: зачем? историей занимается Карамзин. Тогда этот автор стал писать учебный курс. Вот учебник по истории писать можно, а государственную историографию делает Карамзин. Как я уже сказала, он работал на жалованье, жалованье было небольшое, в семье были проблемы, денег в общем не хватало, но всё-таки как-то жить было можно.
Ну что, давайте почитаем. Николай Михайлович пишет в предисловии: « История в некотором смысле есть священная книга народов: главная, необходимая; зерцало их бытия и деятельности; скрижаль откровений и правил; завет предков к потомству; дополнение, изъяснение настоящего и пример будущего ». Вот то, что история есть изъяснение настоящего… я это как в первый раз прочла, так мне стало проще смотреть на все происходящие сейчас политические события. Посмотришь на них в исторической парадигме и – собственно, а что нового? « Простой гражданин , – продолжает эту мысль Карамзин, – должен читать Историю. Она мирит его с несовершенством видимого порядка вещей как с обыкновенным явлением во всех веках; утешает в государственных бедствиях, свидетельствуя, что и прежде бывали подобные, бывали еще ужаснейшие и Государство не разрушалось ».
А дальше Карамзин устраивает свою очередную революцию, а именно: « Имя Русское имеет для нас особенную прелесть: сердце мое еще сильнее бьется за Пожарского, нежели за Фемистокла или Сципиона ». Вы суть сей революции не понимаете, потому что про Пожарского знаете хотя бы в объеме памятника на Красной площади и что-то о нем говорили к светлому празднику 4 ноября, а вот кто такой Сципион, вы без Википедии вряд ли помните. Поэтому вы не осознаёте всю революционность этой фразы, но, учитывая процитированное мной высказывание Федора Толстого, « оказывается, у меня есть Отечество », вы понимаете, что во времена Карамзина абсолютно любой человек, получивший хотя бы тройку по истории в гимназии, знал прекрасно, кто такой Сципион, не говоря уж о Фемистокле, а вот с Пожарским было несколько похуже. У нас сейчас с патриотизмом всё в порядке, но надо понимать, что осознание отечественной истории обычным читающим человеком – это сделал Карамзин. Он действительно совершил переворот в русском сознании. Кстати, слово «переворот» в значении «революция» придумал тоже Николай свет-Михайлович. Без него у нас всё было бы по-другому! И да, буквы «Ё» тоже не было бы в алфавите.
Идем дальше. Русские должны знать свою историю: « Следуя правилу государственной нравственности, которая ставит уважение к предкам в достоинство гражданину образованному ». А вот такого вы никогда не слышали. Вы привыкли, что знать историю – это эрудиция, интеллект, максимум патриотизм. А Карамзин пишет, что это – нравственность. И насколько же он прав! А дальше он дает следующую фразу: « Где нет любви, нет и души ». Я вам в прошлый раз, цитируя Пушкина о Радищеве (а Пушкин – это один из младокарамзинистов, не забывайте об этом), приводила фразу « Нет истины, где нет любви ». Как видите, Карамзин сформулировал это немножко раньше. Итак, о чем бы ты не говорил, обо всём об этом надо говорить с любовью. Я покажу вам на примерах, как это делает Николай Михайлович, а он будет говорить о многих и многих негативных вещах. Но с любовью.
Еще из предисловия: « Мы любим Отечество, желая ему благоденствия еще более, нежели славы ». Непростой тезис. Весьма своеобразный патриотизм у Карамзина. Вот вам еще из непростых цитат: « Храбрость всегда знаменитое свойство народное, может ли в людях полудиких основываться на одном славолюбии, сродном только человеку образованному? » Вопрос! « Скажем смело, что она была в мире злодейством прежде, нежели обратилась в добродетель….Славяне, ободренные воинскими успехами, чрез некоторое время долженствовали открыть в себе гордость народную, благородный источник дел славных ».
У него довольно любопытно: если он ругает славян, то он всегда указывает, какое это племя: древляне или еще кто-нибудь; а как « открыли в себе гордость народную », так они «славяне». Но заметьте, что сама по себе идея, что храбрость была в мире злодейством прежде, нежели обратилась в добродетель, интересный поворот мыслей, нестандартный.
Очень люблю эту цитату. « Святослав, видя малое число своих храбрых воинов, большею частию раненных, и сам уязвленный, решился наконец требовать мира ». Речь идет об очередной войне руси с Византией. « Цимиский , – то есть император Византии, – обрадованный его предложением, отправил к нему в стан богатые дары. “Возьмем их, – сказал великий князь дружине своей, – когда же будем недовольны греками, то, собрав войско многочисленное, снова найдем путь к Царюграду”. Так повествует наш летописец, не сказав ни слова о счастливых успехах греческого оружия ». То есть идет пассаж из «Повести временных лет». И Карамзин, который помимо «Повести временных лет» и сорока русских летописей читал европейские источники и греческие источники, деликатно сообщает, что греки сначала почти разбили русь, потом решили откупиться по обыкновению. И что наш летописец этот момент замалчивает; что положение Святослава было таково, что если еще не только не добивают, но и дары предлагают, то надо срочно брать и очень гордо уезжать. Вот вам Карамзин, вот вам его объективность. Он в любой ситуации сохраняет равновесие. Он цитирует русскую летопись, он показывает, что дело было немножечко не так, как пишет Нестор. И он этой фразой « так повествует наш летописец, не сказав ни слова о счастливых успехах греческого оружия » выражает свое отношение к летописи, четко объясняет, как надо русские летописи читать – с переводом с летописного на русский. Итак, он будет стремиться к максимальной объективности, и не только в изложении фактов, как здесь, но и в трактовке, как мы с вами увидим дальше.
Знаете, в жизни у каждого серьезного автора случается эффект Зверь-Книги: ты пишешь про всякие бяки, а они начинают твориться в реальной жизни, причем не только твоей, но и в судьбе страны… и если ты писатель художественный, то это еще можно объяснить особой чуткостью, а если ты пишешь научный текст и за зарплату, то объяснить сложно. Но такие случаи мне известны. И у Николая Михайловича такое было, увы. Это хорошо в романах описывать – матёрая гоголевщина, городское фэнтези. А оказаться внутри – поверьте, очень страшно. Так вот, у Карамзина умирает тесть, оставив ему тридцать пять тысяч долгу и заботу о двух несовершеннолетних детях. Сам Николай Михайлович болен. И одновременно идут военные события 1806–1807 годов, русские дважды разгромлены. « Солдаты и офицеры показали военную храбрость, но Румянцевых, Суворовых нет ». А писать надо про нашествие Батыя. В каком ты кошмаре – в сегодняшнем или в древнерусском?! Как работать, как продолжать труд?! Давайте посмотрим большую цитату. « Состояние России было самое плачевное: казалось, что огненная река промчалась от ее восточных пределов до западных; что язва, землетрясения и прочие ужасы вместе опустошили их…. Летописцы наши, сетуя над развалинами отечества, прибавляют: “Батый, как лютый зверь, пожирал целые области, терзая когтями остатки. Храбрейшие князья российские пали в битвах… Матери плакали о детях, пред их глазами растоптанных конями татарскими, а девы – о своей невинности: сколь многие из них, желая спасти оную, бросались на острый нож или в глубокие реки! Жены боярские, не знавшие трудов, всегда украшенные златыми монистами и одеждою шелковою, всегда окруженные толпою слуг, сделались рабами варваров, носили воду для их жен… Живые завидовали спокойствию мертвых”. Одним словом, Россия тогда испытала все бедствия, претерпенные Римской империей времен Феодосия великого до седьмого века, когда северные дикие народы громили ее цветущие области. Варвары действуют по одним правилам и разнствуют между собой только в силе».
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: