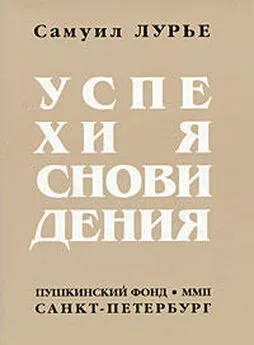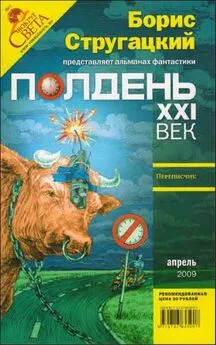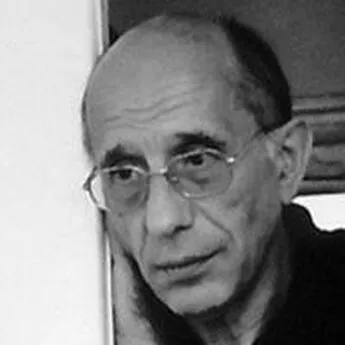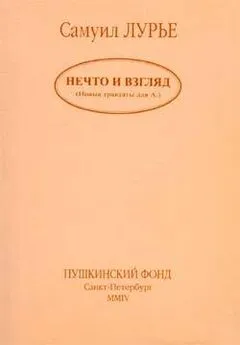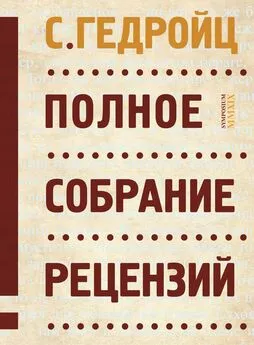Самуил Лурье - Полное собрание рецензий [litres]
- Название:Полное собрание рецензий [litres]
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Литагент ИП Князев
- Год:2019
- ISBN:978-5-89091-529-0
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Самуил Лурье - Полное собрание рецензий [litres] краткое содержание
Полное собрание рецензий [litres] - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Что вообще-то Вторая мировая война могла почти сразу по окончании перейти в третью, – да призадумалась. (Об усвояемости сыра, наверное; о риске подавиться.)
Что «самым главным итогом сталинского завершения войны стало сохранение на полвека не соответствующего современному этапу развития производительных сил и цивилизации в целом строя государственного бюрократического социализма».
И т. д.
Все это, разумеется, не новости. Ни для начальства, ни для населения. Но мозги того и другого, будучи до блеска выварены в крутом кипятке пропаганды, не способны справиться со своим же содержанием. Не вмещают его, извергают в виде жидкой субстанции, ненаучно именуемой истерическим враньем. (А извержения условлено принимать за симптомы патриотизма.)
Так что по сути сочинение Гавриила Попова представляет собой деликатный намек: дескать, не пора ли начать закрепительную какую-нибудь терапию? Строгая диета, разные вяжущие средства плюс обеззараживающие. Наподобие, предположим, отвара ромашки.
«Сталинскую концепцию можно и, более того, нужно отвергнуть именно во время торжеств по случаю Юбилея.
О сути этой концепции я уже писал в предыдущих заметках.
Первое . Это попытки скрыть или хотя бы преуменьшить сам факт поражения Сталина, его государства, его армии, его органов безопасности в первые десять дней после начала войны, поражения того социализма, который после окончания Гражданской войны бросил все силы страны на подготовку к новой войне.
Второе . Это попытки скрыть тот факт, что Сталин обманул русский народ, превратив Отечественную войну русского народа в войну за утверждение сталинского социализма в странах Восточной Европы. Скрыть, что 1,5 миллиона бойцов и командиров стали платой за этот сталинский план и его реализацию.
Третье . Это попытки скрыть, что заключительный этап Отечественной войны Сталин сделал первым этапом уже новой, „холодной войны“, началом подготовки к третьей мировой войне».
То есть Гавриил Попов, наверное, желал бы, чтобы его книжка получила права учебного пособия для средних школ. Но, как это ни удивительно, издателя для нее в России не нашлось.
И это несмотря на то, что автор – понимая вообще-то: пациент способен обрызгать с головы до ног, – подступается осторожно и уговаривает голоском взвешенным, обещая разные поблажки.
Типа того, что памятник товарищу Сталину – конечно, конечно, давайте обязательно поставим, а как же, только давайте напишем на пьедестале: исключительно за положительную роль в годы ВОВ. В смысле – да, был молодчага, но все-таки, согласимся, голубчики, – что лишь отчасти.
Мысль, между прочим, интересная. Хотя, будь я скульптор, постарался бы реализовать ее наглядней, поверх пьедестала. Водрузил бы на него кормчего не целиком, а какую-нибудь часть – допустим, сапог. А что? Памятник Сапогу Сталина – его и чистить не надо, вечно будет сиять.
Лично меня в книжке Гавриила Попова поразил всего лишь один фактик, причем упомянутый мимоходом. Это когда заходит речь про то, что в городах, сдаваемых немцам, ГБ спасала самое дорогое – в частности, уничтожала заключенных, прежде всего – политических.
«О вожде российского крестьянства, лидере левоэсеровской партии Марии Спиридоновой известно лишь то, что чекисты ее расстреляли в Орловском централе в 1941 году. Известно, что ей завязали рот, перед тем как зачитывать решение о расстреле, – так панически боялась эту славную дочь русского народа коммунистическая бюрократия. Но до сих пор не найдена ее могила, нет на ней памятника одному из вождей Октября – ведь среди штурмовавших Зимний дворец большевистские части составляли всего треть…» и проч.
Насчет памятника – бог с ним; это, видать, у Гавриила Попова такой пунктик. А вот идея завязать рот – чтобы, значит, метко сказанное русское слово не коснулось ушей палача (после чего, само собой, пришлось бы ему тоже, на всякий случай, проследовать к стенке, – а за ним, видимо, и тому товарищу, который обезвредит его), – свидетельствует о более чем серьезном отношении органов к истории как науке.
А Гавриил Попов еще рассуждает про «упущенный шанс человечества». Дескать, можно же было воспользоваться плодами Победы правильно, а именно – «форсировать переход к постиндустриальному строю».
Ага. Ща. Они форсируют. Потом догонят и форсируют еще.
Фотография женщины: Мария Башкирцева. Дневник. Елизавета Дьяконова. Дневник
СПб.: Кирцидели, 2005.
Башкирцева – та самая (1858–1884). Про которую каждый что-то слышал. Ровно столько, сколько и надо: живопись, туберкулез, Париж, белое платье, сто шесть толстых тетрадей на французском языке.
Тут, понятно, лишь отрывки – зато в новом и очень хорошем переводе (Елены Баевской). Передающем, так сказать, игру словесной мимики.
Поскольку дело не в событиях – какие там события! так, впечатления, соображения, разговоры, несколько поцелуев, – а дело в том, чтобы держаться выше этого всего. Умней обиды, боли, слабости, страха. И если всплакнуть – то сразу же и пошутить. В общем, быть женщиной необыкновенной. С которой не соскучишься и через триста лет. То есть быть самой собой, какая есть. Достойной такой любви, quantum nulla amabitur, да только при жизни фиг дождешься.
Когда-нибудь. Когда прочитают.
Стало быть, надо хорошо выглядеть, надо храбриться.
«Судя по всему, моя худоба и все прочее не от чахотки; это случайная хворь, которую я подхватила, но никому о ней не рассказывала, – все надеялась, что сама пройдет, и продолжала лечить легкие, которые за это время не стали хуже.
Но не буду морочить вам голову своими хворями. Главное, что я ничего не могу делать!!!
Ничего!»
В сущности, все в порядке: внешность привлекательна, талант, кажется, есть; а также в некотором количестве деньги и свобода;
только жаль, стрептомицин еще не открыт.
Да, грустно – честно говоря, и скучно, – а все же ничто не сравнится, предупреждаю, с угрюмой тоской, которую наведет на вас монотонный, резкий голос и жалкая судьба Елизаветы Дьяконовой (1874–1902).
Провинциалка, курсистка – истеричка, самоубийца.
Вообще, я очень жалею, что прочитал эту книгу – эту самую «Фотографию женщины», хоть она и составлена с большим тщанием, специалистами серьезными. Столько в ней одиночества, безвыходного несчастья и смерти. А загляни я сперва в послесловие – вообще не взял бы в руки.
Там Александр Эткинд сообщает, что дневник – жанр самоудовлетворения. «Читая дневники обеих русских девушек, чувствуешь, как работа над ними заменяла им партнеров по общению, которых они себя лишили. Рассматривание своего тела, постоянные сомнения в его полноценности…»
Что-то еще про «девичьи грехи».
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
![Обложка книги Самуил Лурье - Полное собрание рецензий [litres]](/books/1076062/samuil-lure-polnoe-sobranie-recenzij-litres.webp)