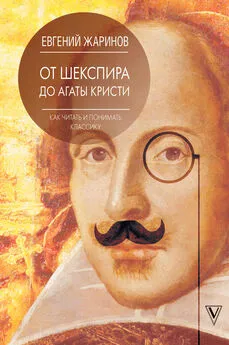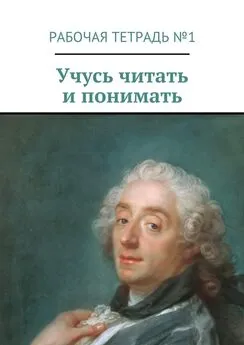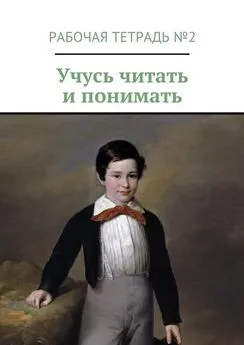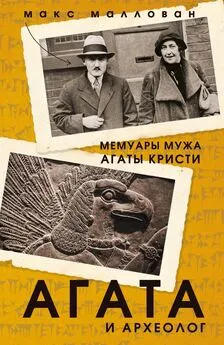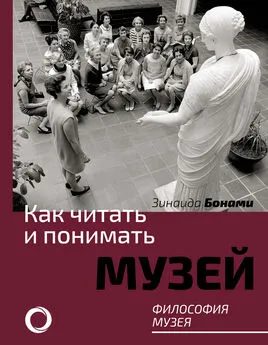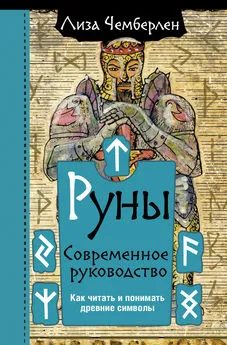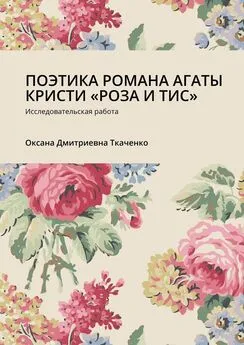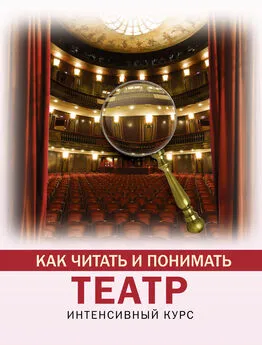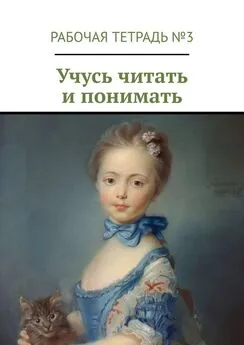Евгений Жаринов - От Шекспира до Агаты Кристи. Как читать и понимать классику
- Название:От Шекспира до Агаты Кристи. Как читать и понимать классику
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Литагент АСТ
- Год:2018
- Город:Москва
- ISBN:978-5-17-109003-6
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Евгений Жаринов - От Шекспира до Агаты Кристи. Как читать и понимать классику краткое содержание
Евгений Викторович Жаринов – доктор филологических наук, профессор кафедры литературы Московского государственного лингвистического университета, профессор Гуманитарного института телевидения и радиовещания им. М.А. Литовчина, ведущий передачи «Лабиринты» на радиостанции «Орфей», лауреат двух премий «Золотой микрофон».
От Шекспира до Агаты Кристи. Как читать и понимать классику - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Постмодернизм же, как и предшествующий ему модернизм, принцип мимесиса отрицает. Ставится под сомнение сам принцип объективности. Ньютоно-картезианская парадигма, лежащая в основе позитивизма, ориентированного на опыт и объективность, на науку и эксперимент, сменяются кризисом рациональности и постмодернистской чувствительностью. В физике это похоже на смену механики Ньютона на квантовую механику Планка, или на спор между Эйнштейном и Н. Бором относительно существования объективной действительности, которая, по Гейзенбергу, (между прочим, это псевдоним главного героя нашумевшего телесериала «Во все тяжкие» («Breaking bad») – «в истории бывают странные сближения») заменяется теперь «принципом неопределенности».
Принцип неопределённости, открытый Вернером Гейзенбергом в 1927 г., является одним из краеугольных камней физической квантовой механики. Является следствием принципа корпускулярно-волнового дуализма.
Корпускулярно-волновой дуализм квантовой механики – это научное воплощение двух взаимоисключающих теорий, в не контекста которых нельзя объяснить процессы, происходящие внутри атомного ядра.
В некоторых научно-фантастических рассказах устройство для преодоления принципа неопределённости называют компенсатором Гейзенберга, наиболее известное используется на звездолёте «Энтерпрайз» из фантастического телесериала «Звёздный Путь» в телепортаторе. Однако неизвестно, что означает «преодоление принципа неопределённости». На одной из пресс-конференций продюсера сериала Джина Родденберри спросили «Как работает компенсатор Гейзенберга?», на что он ответил «Спасибо, хорошо!«
В романе «Дюна» Фрэнка Герберта: «Предвиденье, – понял он, – словно луч света, за пределами которого ничего не увидишь, он определяет точную меру… и, возможно, ошибку». Оказывается, и в его провидческих способностях крылось нечто вроде принципа неопределенности Гейзенберга: чтобы увидеть, нужно затратить энергию, а истратив энергию, изменишь увиденное».
Принцип неопределённости часто неправильно понимается или приводится в популярной прессе. Так считают специалисты. В частности, указывается на одну часто встречающуюся формулировку, будто наблюдение события изменяет само событие. Вообще говоря, это не имеет отношения к принципу неопределённости. Почти любой линейный оператор изменяет вектор, на котором он действует (то есть почти любое наблюдение изменяет состояние), но для коммутативных операторов никаких ограничений на возможный разброс значений нет.
Однако можно сколько угодно говорить о том, что популярное толкование принципа Гейзенберга не имеет ничего общего со строгой наукой – важно в данном случае одно, в обществе на уровне массового сознания эта теория получила воплощение в виде сомнения в существовании объективной действительности. И искусство не могло остаться в стороне от этих настроений общества. И постмодернизм, опираясь на предполагаемую идею, будто именно наблюдение способно поменять само событие, утверждает, что смысл как таковой не существует, а определяется лишь индивидуальной интерпретацией воспринимающего.
Роман-фельетон в этом смысле, проходя через индивидуальное восприятие таких великих читателей, как Бальзак и Гюго, оказался способен вырасти до великих образов Вотрена и Жана Вальжана. И знаменитые «Отверженные», и все романы «Человеческой комедии» выходили в печать по законам романа-фельетона, или романа-сериала. Они писались, опираясь на непосредственную читательскую реакцию. Читатель, таким образом, становился соавтором романиста. Маленькие книжки по 10 су каждая продавались на каждом углу у каждого разносчика газет. Неграмотные платили специально грамотному, и тот читал вслух новый эпизод, новую главу о приключениях Жана Вальжана и Козеты, как выходят сейчас новые эпизоды популярного сериала. Точно так же издавал и писал свои великие романы и Чарльз Диккенс, и Золя, и даже Достоевский, чьи тексты почти всегда основывались на газетных сенсациях, за что его и критиковал в свое время Набоков, ошибочно обвиняя русского классика в излишней склонности к массовому чтиву и аффектированному роману для черни.
По М. Бахтину, однако, такая всеядность романа как жанра определяется самой природой слова в романе. Это романное слово отличается от того слова, которое мы употребляем в нашей обычной лексике и даже в других письменных жанрах. Роман, по мнению исследователя, само романное повествование способно было преобразить слово, придав ему колоссальную многозначность. М. Бахтин утверждает, что современное состояние вопросов стилистики романа обнаруживает с полной очевидностью, что все категории и методы традиционной стилистики не способны овладеть художественным своеобразием слова в романе, его специфическою жизнью в нем. Исследователь, анализируя своих предшественников, приходит к формулировке следующего дуализма: «стилистика и философия слова оказываются, в сущности, перед дилеммой: либо признать роман (и, следовательно, всю тяготеющую к нему художественную прозу) нехудожественным или квазихудожественным жанром, либо радикально пересмотреть ту концепцию поэтического слова, которая лежит в основе традиционной стилистики и определяет все её категории». (М. Бахтин. Слово в романе // Бахтин М.М. Вопросы литературы и эстетики. Исследования разных лет. – Изд-во: Художественная литература. М„1975 г. С. 75) Это высказанное сомнение в возможной нехудожественности и квазихудожественности природы романного слова косвенно подтверждает наш тезис о том, что жанр романа-фельетона с его ориентацией на сенсацию, на газету и журнал, на непосредственное отражение событий здесь и сейчас, на апелляцию к читательскому интересу, из которого и складывается сам смысл, ни в коей мере не противоречит роману большому, эталонному что ли. Роман-фельетон – это та почва, тот основной принцип, который и определяет саму природу романного слова, а природа эта, по М. Бахтину, определяется тем, что слово в романе никогда не будет неким застывшим образованием, а всегда будет соответствовать процессу становления. Слово в романе отказывается от всякой искусственности, от всякой ограниченности. Оно может быть и художественным и антихудожественным, и квазихудожественным, как и сама жизнь, которая все время меняется, все время находится в непрерывном процессе становления.
«В то время как основные разновидности поэтических жанров развиваются в русле объединяющих и централизующих, центростремительных сил словесно-идеологической жизни, – пишет М. Бахтин, – роман и тяготеющие к нему художественн-опрозаические жанры исторически слагались в русле децентрализующих, центробежных сил. В то время как поэзия в официальных социально-идеологических верхах решала задачу культурной, национальной, политической централизации словесно-идеологического мира, – в низах, на балаганных и ярмарочных подмостках звучало шутовское разноречие, передразнивание всех «языков» и диалектов, развивалась литература фабльо и шванков, уличных песен, поговорок, анекдотов, где не было никакого языкового центра, где велась живая игра «языками» поэтов, ученых, монахов, рыцарей и др., где все «языки» были масками и не было подлинного и бесспорного языкового лица.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: