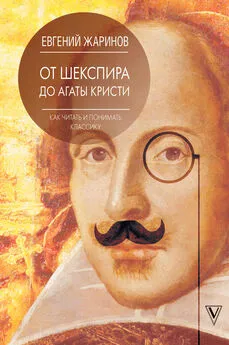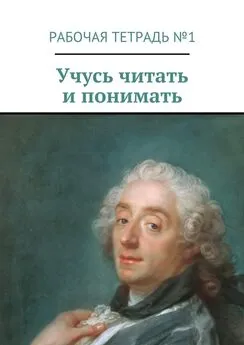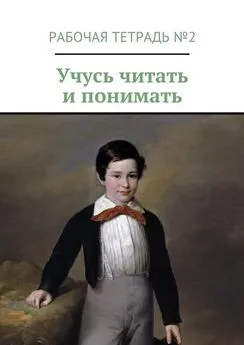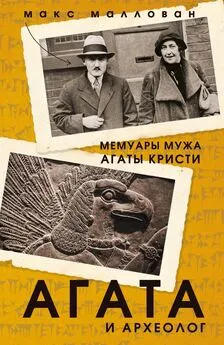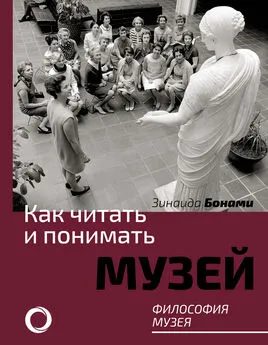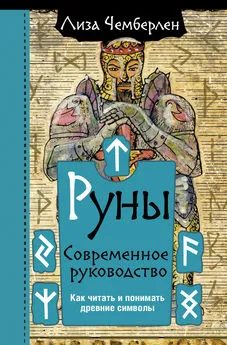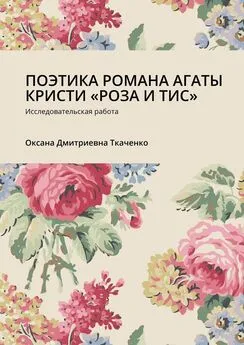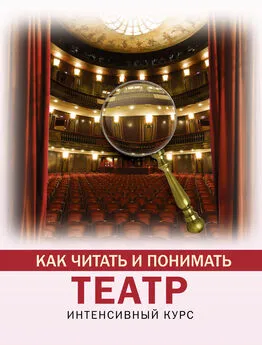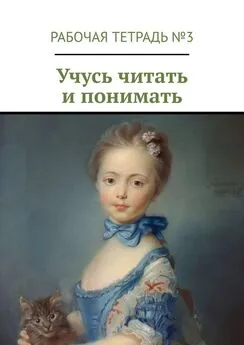Евгений Жаринов - От Шекспира до Агаты Кристи. Как читать и понимать классику
- Название:От Шекспира до Агаты Кристи. Как читать и понимать классику
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Литагент АСТ
- Год:2018
- Город:Москва
- ISBN:978-5-17-109003-6
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Евгений Жаринов - От Шекспира до Агаты Кристи. Как читать и понимать классику краткое содержание
Евгений Викторович Жаринов – доктор филологических наук, профессор кафедры литературы Московского государственного лингвистического университета, профессор Гуманитарного института телевидения и радиовещания им. М.А. Литовчина, ведущий передачи «Лабиринты» на радиостанции «Орфей», лауреат двух премий «Золотой микрофон».
От Шекспира до Агаты Кристи. Как читать и понимать классику - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Известен случай, что Лютер во время одной из репетиций церковного хора, прослушав стих из Евангелия, где говорилось об исцелении силою веры, рухнул на землю и не своим («6ычьим») голосом закричал: «Не есмь!» («поп sum»). А 2 мая 1507 года во время своей первой мессы в качестве священника, дойдя до слов:»…и помолимся от сердца», почувствовал, что «едва жив от страха, ибо не было в нем веры», встал и покинул алтарь.
На этот факт следует обратить особое внимание. По А.Л. Чижевскому нам известно, что человечество не раз посещал так называемый психоз одержимости. «Все эти эпидемии, – пишет исследователь, – проявили себя в годы повышенной деятельности солнца». С 1491 по 1494 гг. длилась демономатическая эпидемия в монастыре Камбрэ. Монахини бегали собаками, порхали птицами, карабкались кошками и т. д. Большая эпидемия наблюдалась с 1628 по 1631 г. в Мадриде, в бенедиктинском женском монастыре. Монахини бились в судорогах и конвульсиях, заявляя, что они одержимы демонами и т. д.
Как мы видим, поведение М. Лютера вполне вписывается в довольно распространенный тип поведения в замкнутом пространстве, в монастыре, где жизнь подчинена строжайшей дисциплине, способствующей всевозможным психическим срывам. Случай же с М. Лютером уникален именно в том смысле, что его одержимость как проявление общего исступленного дионисийского начала в природе человека приобрела значение новой религии и получила теоретическое обоснование в виде права интуитивного, сугубо индивидуалистического, прочтения текста святого писания. Таким образом, одержимость приобрела статус святости, что и создало прецедент для появления всякого рода доктрины о несуществующей доселе в теологии диалектики Добра и Зла. Отсюда, на наш взгляд, и берет свои начала как романтический, так и современный нигилизм. Восстав против монашеской жизни и оправдав тем самым свой индивидуальный бунт, М. Лютер нарушил баланс сил, в течение многих веков удерживаемый отцами церкви. Для прояснения данного положения следует сделать еще один небольшой экскурс в историю западноевропейского монашества, дабы понять, против каких незыблемых правил и какого мощного института всей средневековой жизни восстал М. Лютер, совершив доселе неслыханную революцию в сознании людей.
Монашеская жизнь Западной Европы зародилась еще на закате римской империи, и основоположником ее был Антоний – первый монах, основатель уставной монашеской жизни.
Со временем правила монашеского жития, которые диктует ему устав, перестают быть внешними требованиями. Как считает А. Демустье, «личность монаха достигает свободного и истинного самовыражения благодаря монастырскому богослужению и совместному совершаемому в безмолвии труду; безмолвие это раскрывает взаимное общение, так как именно в безмолвии каждый поистине общается с другими. Отныне благодаря личному обращению в монахе раскрывается иное, более истинное и более реальное измерение его индивидуальности, то измерение, какое он получает от Господа через своих братьев. Иными словами, он в полной мере становится самим собой как член единого тела… И община, и каждый ее член становятся живым образом Евангелия, и в силу этого община становится общиной апостольской… Из этого следует, что подобная форма подвижнической жизни выявляет вселенский характер братства сынов божьих – братства, которое рождается не от плоти и крови, но от призыва Христа. Всякий, и даже наиболее созерцательный по своему уставу, монастырь есть оплот апостольства и свидетельство о грядущем Царствии Божьем».
Получается так, что своим странным поведением М. Лютер лишь подтвердил мысль о том, что он не смог отказаться до конца от индивидуалистического начала, не смог войти в логику апостольской жизни. Более того, именно это индивидуалистическое начало привело его к тому, что он создал совершенно новый тип религии, в которой немалую роль начал играть рационально-индивидуалистический аспект.
Следует отметить, что в средневековой теологии всегда достигалась спасительная гармония между Разумом и Откровением. И именно этой проблеме были посвящены труды таких богословов, как Аверроэс и Иоанн Жоденский. Историческое значение Св. Фомы Аквинского заключается в том, «что он был первым средневековым мыслителем, который добрался до корней этого затруднения».
Лютер же буквально взорвал подобное равновесие и подчинил Откровение Разуму, тем самым открыв широкую дорогу для всякого рода спекуляций относительно диалектики Добра и Зла.
По А.Л. Чижевскому, неожиданное распространение идеи лютеранства можно отнести к разряду так называемого «эпидемического распространения». Сюда относятся многие научные, литературно-художественные, бытовые представления, религиозные, политические учения и т. д., которые неожиданно вызывают повальные умственные движения и «могут быть причислены к собственно психическим эпидемиям».
Для того чтобы идея получила широкую огласку, необходимы определенные условия как объективные, так и субъективные, составляющие «сложную совокупность». Эти условия должны быть включены в структуру самого общества, и случайность здесь играет большую роль.
О лютеранстве написано немало книг, пытающихся проанализировать закономерность появления этого религиозного учения в Германии в начале XVI века. Но при всем богатстве источников до сих пор остается неясной скрытая закономерность широкого распространения протестантизма в Западной и Восточной Европе. По мнению Ги Бедуелля, знаменитые 95 тезисов, вывешенные 31 октября 1517 года накануне праздника Всех святых на воротах монастыря в Виттенберге, до недавнего времени имели основополагающее значение во всей истории протестантизма.
Сейчас же среди историков религиозных учений существует несколько иное мнение. «Несмотря на всю их резкость и содержащиеся выпады, – пишет Бедуелл, – эти тезисы были, по всей видимости, всего лишь приглашением к богословскому диспуту, к disputatio средневекового типа, который имел полное право затеять любой университетский профессор, переполненный идеями».
«Революционный» запал самого Лютера не нарушал существующей логики средневековой богословской жизни. Тот же Бедуелл больше обращает внимание на другой эпизод, имевший место в 1519 году в Лейпциге, когда противник Лютера Иоганн Экк из Ингольдштадта обвинил его в отрицании непогрешимости Соборов, то есть в полном разрыве с Преданием, которое Лютер считал не более, чем человеческими словами, а также с Церковью, поскольку он полагал, что она может заблуждаться даже в вопросах веры.
В работе 1520 года и сформировалась концепция интуитивного прозрения, интуитивного прочтения Святого писания. До этого канонический текст предполагалось изучать лишь в соответствии со строжайшими правилами и по всем законам схоластики, требующей огромной и, прежде всего, рациональной, высокоинтеллектуальной подготовки. Стихия интуиции, подкрепленная общей одержимостью автора, призвана была разрушить стройный схоластический мир средневекового богословия.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: