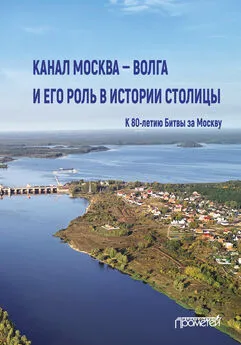Коллектив авторов - Моя вселенная – Москва». Юрий Поляков: личность, творчество, поэтика
- Название:Моя вселенная – Москва». Юрий Поляков: личность, творчество, поэтика
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:ИПО «У Никитских ворот» Литагент
- Год:2014
- ISBN:978-5-91366-943-8
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Коллектив авторов - Моя вселенная – Москва». Юрий Поляков: личность, творчество, поэтика краткое содержание
Моя вселенная – Москва». Юрий Поляков: личность, творчество, поэтика - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Приём семантической актуализации, то есть превращения (воображением самого читателя) отдельного слова, фразы, фрагмента в художественную развёрнутую картину, виртуозно использован писателем и в «Козлёнке» – романе о метаморфозах творческого мышления в период горбачёвской перестройки. «Хватит ходить в коротких штанишках. Партия доверяет нам. <���…> Всё будем печатать! Плюрализм…» – «мужественно» обещает Н. Н. Горынин, секретарь правления Союза писателей, страждущий руководящих указаний литературной общественности.
«Толпа некоторое время молча обдумывала сказанное, стараясь понять тайный смысл этих слов и особенно – последнего, незнакомого, подозрительно оканчивающегося на “изм”» [1, т. II, с. 329].
«Толпа», масса как живое воплощение таинственного «плюрализма» с немым изумлением встречает странное, непривычно-опасное слово «перестроечного» дня. Слово всё чаще подменяется паузой, пауза – немотой. Пустоты агонизирующих смыслов заполняются речевыми фантомами – означающими без означаемого: «новое мышление», «плюрализм», «гласность»… Да и вся завязка романа фиксирует прохождение обществом некоей стадии (само)отрицания – и стадии нуля: замирания слова в поисках смысла.
В романе «Замыслил я побег…» рассказывается, как в НПО «Старт» (потом – в «Альдебаране»), занимавшемся космическими разработками, резко срезали финансирование, «научную работу свернули, а зарплату не повышали, хотя тех денег, на которые раньше можно было жить месяц, теперь хватало на несколько дней. <���…>
Докукин поначалу регулярно проводил собрания трудового коллектива…
– Надо, надо, товарищи, думать над смелыми конверсионными проектами! Не мы с вами этот рынок придумали… Но в рынке жить…
– По-рыночьи выть! – подсказал из зала Джедай.
– Вот именно. Надо прорываться!.. Например, очень перспективная идея производства биотуалетов для дачных домиков, а также фильтра для водопроводной воды… <���…>
И действительно, вскоре были разработаны и изготовлены фильтр «Супер-роса», а также образец биотуалета «Ветерок-I» – изящное обтекаемое изделие из мраморного пластика. Оба приспособления хранились в директорском кабинете. И Докукин во время переговоров с предполагаемыми партнёрами и инвесторами торжественно указывал пальцем на «Ветерок-I» и говорил:
– Это – наше будущее!» [1, т. III, с. 164–165].
С точки зрения проходимца Докукина, «наше будущее» (читай: будущее страны, нации) – изящный биотуалет. Понятно, что такое будущее вовсе не прельщает «автора» 24 24 Здесь под закавыченным термином подразумевается не реальный создатель произведения, а образ автора – центр, фокус, в котором скрещиваются и синтезируются все стилистические и композиционные приёмы, используемые писателем (В.В. Виноградов), а также «мораль формы» (М. Фуко), «этос поэтического языка» (Р. Барт) – то есть система идей и нравственно-эстетических представлений, выраженная в «словесном поведении» писателя. Можно сказать и так: «автор» – это овеществлённая в общем речевом стиле незримая фигура спутника героев и персонажей произведения. В приведённом отрывке подлинный лик автора обнаруживает себя на пересечении субъектно-речевых сфер Докукина, Джедая и эксплицитного автора – свидетеля и комментатора увиденного, гаранта подлинности изображаемых событий.
. Неслучайно в процитированном отрывке императив «Надо прорываться!» (результат то ли намеренно непонятой, то ли плохо расслышанной реплики Джедая) рассыпается на амбивалентные «жить» и «выть», причём последнее – «выть» – омоним др. – рус. «выть» («участь, доля, рок, судьба»), сохранившегося в рязанском и ярославском диалектах, выстраивает звуковую оболочку джедаевской реплики как парадигму слов «пора» (синоним слова «время»), «ночь» (цветообозначение второй половины суток) и «выть» (не зависящее от воли человека стечение жизненных обстоятельств, предопределяющее его жизненный путь): «По-
рыночьи выть» = «поры ночь и выть (рок, судьба)». Звуковая парадигма этого смыслообразования выводит на первый план идею иллюзорного времени как времени, зашедшего в тупик. Утратив духовно-нравственное содержание, оно превратилось в Кроноса, пожирающего своих же детей. Елин из «Ста дней до приказа», Семёнов из «ЧП районного масштаба», Курылёв и Лена из «Демгородка», Каракозин из «Замыслил я побег…» – судьба их одинакова: все они лишние на празднике чёрного цвета. Даже удачливый Шарманов из повести «Небо падших» (1997–1998), «урвавший свою сосиску у рассеянного и вечно пьющего дяди Вани» [1, т. II, с. 404], и тот признаётся: «Нас всех обманули. Всех!» [1, т. II, с. 463].
Башмаков после увольнения из НПО оказывается в неожиданной для него ситуации:
«Поначалу ему казалось, новая работа найдётся легко и сама собой, как это случалось прежде. Но потом вдруг выяснилось: никто нигде не нужен» (III, 170).
Нагнетание отрицательных местоимений и частиц идентифицирует иллюзорное время как пространство, в котором каждый только за самого себя. Распад советской эпистемы порождает опустошение, пустоту – и в сугубо человеческом, и в ситуативно-социальном и функциональном планах. Характерна, однако, живучесть прежних мифоидеологем уже в сознании (пост)советских граждан:
«…Он бездействовал, и бездействовал по идейным соображениям, ощущая себя жертвой какой-то чудовищной несправедливости… Несправедливость эта была настолько подлой и умонепостижимой, что такое мироустройство просто не имело права на существование и не могло продержаться сколько-нибудь долго. Оно должно было непременно рухнуть, а из его обломков сложиться светлый и справедливый мир, в котором Олег Трудович снова мгновенно обретёт годами заработанное достоинство. Только нужна обломовская неколебимость…» (III, 172).
Герой, ощущая себя обломком былой цивилизации, сохраняет всё те же революционные упования на возможность создания – на руинах прежней жизни – другого, лучшего мира. Ясно, что в рамках такого (гипотетического) мышления отправной точкой становится не поддающееся рациональному объяснению чувство неудовлетворённости, необходимости перемен – и на этой почве строятся зыбкие очертания радужного грядущего («Кто был никем, тот станет всем»), которое должно возникнуть в результате решительного и мгновенного слома уже существующего общественного уклада. Слово не только изобличает антигуманный смысл подобных умонастроений (изображая, указывает), но и самораскрывается как поэтический феномен, не тождественный самому себе. В «Демгородке» в образе адмирала Рыка, пришедшего к власти в результате подавления «Демократической смуты», как и в облике БМП, выделяются черты временщика и временности. Сведение почётного звания героя («Избавитель Отечества») к аббревиатуре «ИО» не только не исключает иной расшифровки ( Исполняющий Обязанности), но, наоборот, утверждает подтекстовое содержание как единственно верное. Если мы проследим соотношение «говорящей» фамилии адмирала Рыка («рык – рычание»), её сопутствующих значений (пожирания, поглощения, поедания, кусания), а также иноязычного слова «амнистия» – с просторечным «ам-ам»: «ходят слухи… Об ам…. Об амнистии. Ведь И.О. – великодушная личность…» (III, 10), то убедимся, что ряды усекновения, свёртывания (слов – к слогам, буквам, аббревиатурам) передают состояние бездуховности, даже биологизации неототалитарного существования. На то указывает другое возможное свёртывание почётного прозвища Рыка (в главе о приходе И.О. к власти): « Будущий Избавитель Отечества» – БИО.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
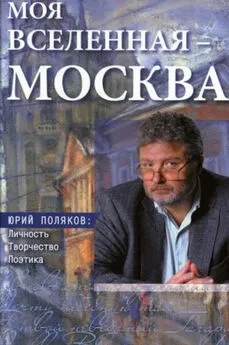



![Коллектив авторов - Испытание реализмом [Материалы научно-теоретической конференции «Творчество Юрия Полякова: традиция и новаторство» (к 60-летию писателя)]](/books/1071829/kollektiv-avtorov-ispytanie-realizmom-materialy-nauchno-teoreticheskoj-konferencii-tvorchestvo-yuriya-polyakova-tradiciya-i-novatorstvo-k-60-letiyu-pisatel.webp)
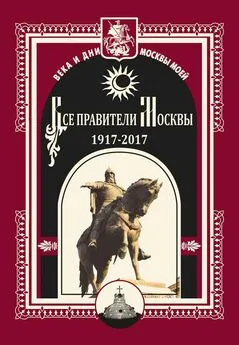

![Коллектив авторов - Вера и личность в меняющемся обществе [litres]](/books/1143889/kollektiv-avtorov-vera-i-lichnost-v-menyayuchemsya-obch.webp)