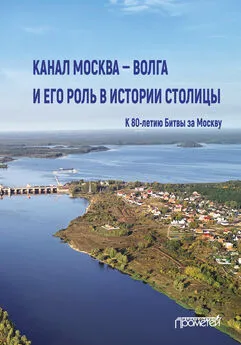Коллектив авторов - Моя вселенная – Москва». Юрий Поляков: личность, творчество, поэтика
- Название:Моя вселенная – Москва». Юрий Поляков: личность, творчество, поэтика
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:ИПО «У Никитских ворот» Литагент
- Год:2014
- ISBN:978-5-91366-943-8
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Коллектив авторов - Моя вселенная – Москва». Юрий Поляков: личность, творчество, поэтика краткое содержание
Моя вселенная – Москва». Юрий Поляков: личность, творчество, поэтика - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Вывернутое в свою противоположность время – это время хищников и прохвостов, регресса от цивилизованных и цивильных методов управления к псевдодемократии и даже самодержавию в самых уродливых, выморочных формах. Мысль об их укоренённости в российской почве не нова. Она относит читателя к образчикам отечественной сатиры ХIХ века. Так, «особое, нелинейное ощущение времени» [4, с. 26] в «Истории одного города» обусловлено у Салтыкова-Щедрина представлениями о параноидальной сущности любой власти как топтания (даже не злодея, а обычного властителя-временщика) на одном и том же, как бы уже внеисторическом месте. Но когда меняются лишь внешние атрибуты, даже благие намерения приводят к разрушению: «Весь мир насилья мы разрушим…» и т. д.
В «Описи градоначальников» города Глупова дана замечательная характеристика «Угрюм-Бурчеева, бывого прохвоста» 25 25 Прохвост, стар. профóс – надзиратель; заимств. из ст. – франц. prévost.
) и его поистине титанических усилий по разрушению старого мира и построению нового: «Разрушил старый город и построил другой на новом месте»[5, с. 133].
На гиблом месте, добавим мы, имея в виду реформаторский задор БМП и подобных ему «градостроителей».
В прозе Юрия Полякова повторяющиеся языковые особенности и композиционные приёмы организации текста играют роль своего рода художественных идеологем, вбирающих в себя не только ориентиры, по которым читатель может (должен) судить о духе изображённого писателем времени, но и о его, самого писателя, иерархии нравственно-эстетических ценностей. В этом смысле сематическая актуализация письма, нагнетание в нём отрицательных частиц, использование аббревиатур (нередко в духе народной этимологии) несут в себе не только отображающую (фиксирующую), но и оценивающую функцию, определяющую в равной степени как лирическую, так и сатирическую тональность произведений.
2014 г.
1. Поляков Ю. Собр. соч.: В 4 т. М., 2001.
2. Шукшин В. Характеры. М., 1973.
3. Дёгтев В. Азбука выживания // Роман-газета. 2003. № 22.
4. Дмитриенко С. Щедрин: незнакомый мир знакомых книг. М., 1998.
5. Салтыков-Щедрин М. Собр. соч.: В 8 т. М., 2003. Т. II.
Небо падших в прозе Юрия Полякова
Я опущусь на дно морское, Я полечу за облака…
М. ЛермонтовВ латинском языке для понятия «Мир» издревле имеется одно слово mundus. Однако рядом с ним существует прилагательное mundus – «чистый, красивый, нарядный, элегантный»… Это слово соединилось (контаминировало) с mundus «мир; небосвод со светилами», и тогда последнее стало восприниматься как полный аналог греческого слова, которое означает «вселенную, мир как красоту и порядок». <���…> Между тем <���…> уже в архаической латыни существовало слово mundus, означавшее «ритуальную яму, вход в подземный мир».
Ю. СтепановЭтот век нас смолол как нацию.
В. АстафьевОдно из произведений Ю. Полякова о судьбах «гомо (пост) советикус» в стремительно капитализирующейся России так и называется: «Небо падших» (1998). Это – и метафора, работающая, как мы увидим ниже, на уровне глубинных архетипов, и переживаемый символ, открывающий каждый раз заново за видимостью буквальных значений онтологические универсалии и константы. Иными словами, «небо падших» – это концепт-образ, который, перефразирую Э. Гуссерля, можно назвать фактом идеального (духовного) бытия, воплотившего в себе все спонтанности творческого сознания.
По-разному преломляясь в романах «Козлёнок в молоке» (1994), «Замыслил я побег…» (1999), «Грибной царь» (2005) и «Гипсовый трубач» (2007–2012), он охватывает сферу мнимых и подлинных ценностей героев, устремлённых к небесному пределу, но оказавшихся на дне в результате духовно-нравственного или социального краха.
Амбивалентный образ дна-неба возникает ещё в повести «ЧП районного масштаба» (1981). В прологе главный герой – первый секретарь Краснопролетарского райкома комсомола Николай Шумилин погружён волей автора в стихию природных сил (в отпуске он занимается подводной охотой), от которых, кажется, надёжно ограждает Система и которые уже вырываются на волю, затрагивая и собственно человеческую (недоучтённую партаппаратчиками) природу в её бренности и уязвимости:
«Тогда снова тело свела судорога беспомощности, а душу охватил утробный ужас» [1, I, 110].
Повесть открывается описанием дна, сопряжённого с небом, но – и отсечённого от него «гранью двух миров»:
«На дне, между камнями, застыл пучеглазый морской ёрш. Он и сам был похож на вытянутый, покрытый щетиной водорослей камень. Бурая подводная трава моталась в такт прокатывающимся на поверхности волнам и открывала пасущихся в чаще разноцветных рыбок. А ещё выше – там, где по мнению придонных жителей находилось небо, – проносились эскадрильи серебристых мальков. И совсем высоко-высоко, на грани двух миров 26 26 Курсив во всех цитатах, за исключением оговоренных случаев, мой. – А. Б.
, ослепительное золото омывало синие тени медуз. Но на солнце даже из-под воды смотреть было невозможно.
Человек в маске и ластах зажмурился, потому что после взгляда вверх дно показалось тёмно-зелёным шевелящимся пятном» [1, I, 107].
Как правило, пространственные указатели в прозе Ю. Полякова выстраивают скрытый от внешнего взора мир в вертикальном срезе; в процитированном фрагменте – «дно → камень →ёрш → рыбки → эскадрильи мальков (=самолёты) → небо «придонных жителей» → солнце, просвечивающее водяную толщу». При этом цветовая гамма (в данном случае: «тёмно-зелёный – бурый/ чёрный – серебристый/белый – синий – золотой») переключает определяемые ею объекты из конкретно-живописного плана в круг метафизических образов-символов. Так в «ЧП районного масштаба» темнота (чёрный цвет) традиционно ассоциируется с концом света: «Солнечный свет дрожал и мерцал перед глазами, точно перегорающая электрическая лампочка. Казалось, одно резкое движение – и наступит темнота» [1, I, 109–110]. В «Козлёнке» белая, чистая страница ненаписанной книги (tabula rasa) – с концом одной жизни и началом другой, то есть с концом света и рождением цвета. В «Побеге» «чёрные, обведённые перламутром глаза» серого «сомца» – с «отчаяньем и тоской» как одной из сущностных констант человеческого бытия:
«Эскейпер 27 27 Неологизм, образованный от англ. «escape» (убегать, избегать, спасаться) и русскоязычной кальки «эскапист» с целью стилистической нюансировки – придания этому слову оттенка аристократического превосходства: «Это как “эсквайр”.<���…> Представляешь, тебя спрашивают: “Вы беглец?” А ты отвечаешь: «Нет, я – эскейпер!»» [1, III, 450−451].Ср.: «Он словно чувствовал себя тайным аристократом, вынужденным скрывать своё происхождение в городе, захваченном торжествующими хамами» [1, III, 250−251].
огляделся и застыл взглядом на бочонке, где метался, как безумный, “сомец”, то ударяясь о прозрачное дно, то почти выпрыгивая из воды. В его чёрных, обвёденных перламутром глазах были отчаянье и тоска. <���…> И вдруг, схватив бочонок, метнул его в стену. <���…> Гневный стыд… ел сердце. Эскейпер увидел возле кресла трепещущее каллихтовое тельце и с хрустом растёр его ногой по паркету» [1, III, 456].
Интервал:
Закладка:
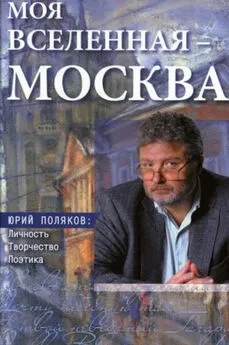



![Коллектив авторов - Испытание реализмом [Материалы научно-теоретической конференции «Творчество Юрия Полякова: традиция и новаторство» (к 60-летию писателя)]](/books/1071829/kollektiv-avtorov-ispytanie-realizmom-materialy-nauchno-teoreticheskoj-konferencii-tvorchestvo-yuriya-polyakova-tradiciya-i-novatorstvo-k-60-letiyu-pisatel.webp)
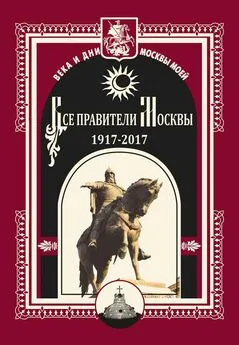

![Коллектив авторов - Вера и личность в меняющемся обществе [litres]](/books/1143889/kollektiv-avtorov-vera-i-lichnost-v-menyayuchemsya-obch.webp)