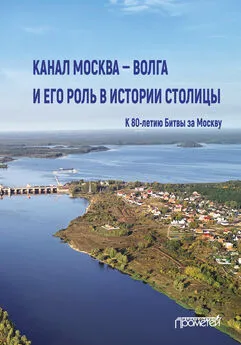Коллектив авторов - Моя вселенная – Москва». Юрий Поляков: личность, творчество, поэтика
- Название:Моя вселенная – Москва». Юрий Поляков: личность, творчество, поэтика
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:ИПО «У Никитских ворот» Литагент
- Год:2014
- ISBN:978-5-91366-943-8
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Коллектив авторов - Моя вселенная – Москва». Юрий Поляков: личность, творчество, поэтика краткое содержание
Моя вселенная – Москва». Юрий Поляков: личность, творчество, поэтика - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Мотив утраты реального неба жизни, замены его суррогатами «сумеречного сознания» переплетается с апокалиптическими мотивами «альтернативной истории». Финал крусановского романа «Укус ангела» выводит читателя к самой «кромке творения», заповедной границе «седьмого неба», за которой – провал, обрыв в «кромешную подкладку мира»[11, 331]. Как в «Козлёнке», пересечение запретной границы, нарушение древних законов mundus’a обращает мир в хаос. То мистическое, то гротескно-амбивалентное «небо падших» становится апокалиптическим «седьмым небом» – последним ликом возможного «мира как красоты и порядка»:
«Так длилось то или иное время, но вот седьмое небо на глазах начало меркнуть, стекленеть, будто топился на огне стылый жир, – ещё один тугой, протяжный миг, и сквозь последний предел всё ясней и ясней стали проступать чудовищные образы чужого мира…»[11, 331].
У Полякова мистическое – в подтексте. Это скорее приём остранения, средство философско-психологического проникновения в действительность, словно впервые увиденную. В финале «Гипсового трубача» героя, потрясённого собственной смертностью, посещает космическое видение о пришельце-«богомоле» и внезапном исцелении с его помощью. Ночная грёза вскоре развеивается, и, кажется, на долю страдальца выпадает лишь кратко всплакнуть о чудесном сне. Но мистический настрой не исчезает из повествования о рыцарях наших дней и их необычных судьбах – это и утверждение возможного преображения, и одновременно вопрос:
А куда мы попадём после смерти?
2014 г.
1. Поляков Ю. Собрание сочинений: В 4 т. М., 2001.
2. Козлов Ю. Колодец пророков. М., 1998.
3. Куницын В. Нелюбимый любимчик // Литературная газета.
1999. 3 ноября.
4. Евсеев Б. Власть собачья. Екатеринбург, 2003.
5. Степанов Ю. Константы: Словарь русской культуры. М., 2001. 6. Лосев А. Эстетика возрождения. М., 1998.
7. Rancour-Laferrier D. Th e Slave Soul of Russia: Moral Masochism and the Cult of Suff ering. N. Y. and L., 1995.
8. Белый А. Мастерство Гоголя. М., 1996.
9. Солженицын А. Россия в обвале. М., 1998.
10. Поляков Ю. Плотские повести. М., 2003.
11. Крусанов П. Укус ангела. СПб., 2003.
12. Поляков Ю. Грибной царь. М., 2005.
13. Поляков Ю. Гипсовый трубач. М., 2013.
Л.С. Захидова, кандидат филологических наук, доцент
Преемник великих традиций 37 37 Изначальный материал впервые опубликован в диссертации «Специфика идиостиля Ю. Полякова (лексико-симантический аспект)» (Абакан, 2009).
В последнее время перед учителями, родителями и всеми заинтересованными людьми всё чаще встаёт серьёзный вопрос: что собой представляет литература новейшего времени и что читать современным детям, чьи души, безусловно, нуждаются в воспитании? На просторах интернета можно найти разные классификации писателей («живые классики», «мэтры», «премиальные авторы» и пр. Чем не тема для прозы М.Е. Салтыкова-Щедрина или М.А. Булгакова?!), есть даже справочники, демонстрирующие личный выбор их авторов в море современной литературы. На чём основан этот выбор, как правило, не сообщается.
Часто бывает так, что люди, всерьёз занимающиеся изучением литературного процесса, исследующие специфику языка того или иного автора, заняты своей работой и не находят времени на отслеживание «рекомендаций» и списков для чтения «лучших авторов современности». Само по себе подобное определение очень относительно… Обращение к истории литературы убедительно доказывает это. Однако вопрос о современном круге чтения остаётся открытым. Возможно, это и объясняет отчасти отсутствие интереса к новейшей литературе у молодёжи. Желая прояснить ситуацию, на занятиях по культуре речи в НГМУ мы обращаемся к «Литературной газете», которая много лет ориентирует в море разных изданий. Читая эту газету, можно быть не только в курсе всех новинок литературы, но и научиться видеть жизнь вокруг себя и во всём мире. Будущие врачи, призванные продолжать традиции великих медиков, великолепно владеющих словом, вводят «Литературную газету» в обязательный круг чтения. Эту газету буквально расхватывает читающий город. В том, что это издание пользуется такой популярностью в Новосибирске, что содержание «Литературной газеты» интересно большинству горожан, огромная заслуга главного редактора газеты – Ю.М. Полякова.
Небольшой опрос, проведённый среди абитуриентов, студентов и преподавателей НГМУ, показал, что число читаемых в наши дни авторов гораздо меньше, чем предлагает книжный рынок. К числу наиболее ярких и читаемых современных прозаиков относится Ю.М. Поляков, что продиктовано значимостью его творчества, соединившего лучшие черты русской публицистики, очерка, романа и повести.
Нам бы хотелось остановиться на некоторых специфических чертах идиостиля писателя, которые позволяют назвать его одним из самых ярких писателей современности и связывают его творчество с традициями великой русской литературы. Если мы обратимся к творчеству классиков, то творчество Ю.М. Полякова встроится в парадигму: Н.В. Гоголь, М.Е. Салтыков-Щедрин, М.А. Булгаков… И речь не только об иронии и сатире, которые отличают идиостиль писателя, но и в обращении к разного рода культурологическим подтекстам, заложенным в произведениях Ю.М. Полякова. Для появления подтекста произведения автору необходимо максимально точно подобрать «пусковые механизмы» читательского восприятия – лексемы, способные вызывать в сознании определённые образы, целые культурные традиции. Спецификой ряда произведений Ю.М. Полякова и характерной чертой его идиостиля в целом является мифологическое ассоциирование. Со временем эта особенность только усиливается: мифопоэтическая парадигма у писателя имеет ассоциативную связь с мифологическими образами и используется в тексте как средство создания мифологического подтекста и средство обогащения художественного текста дополнительными смыслами (роман в трёх частях «Гипсовый трубач», например, отсылает читателя к мифам советского времени). Мифопоэтические парадигмы охватывают все тексты автора и позволяют говорить о мифопоэтическом типе мышления писателя.
Формирование мифопоэтической парадигмы начинается уже на уровне аллюзивных названий текстов: «Подземный художник», «Возвращение блудного мужа», «Небо падших», «Козлёнок в молоке», «Грибной царь» и другие. Помимо текстов, в которых мифологемы заданы названием, в произведениях могут присутствовать вербализованные и невербализованные мифологемы. Мифологемы у Ю.М. Полякова – это слова, иногда фразеологизмы, крылатые слова, отсылающие нас к мифологическому образу и (или) вызывающие в сознании читателя представления о некоем мифе. Они задают связь с определёнными образами древнегреческой, древнеримской и христианской мифологии. Так, в повести «Небо падших» в оксюморонной рамке задана устойчивая ассоциация «верх – низ», отсылающая нас к мифологической модели пространства. Верху соответствует небо, а низу – земля. Небо в мифологии – важнейшая часть космоса, абсолютное воплощение верха – члена одной из основных семантических оппозиций. Его основные свойства – абсолютная удалённость и недоступность, неизменность, огромность – слиты в мифотворческом сознании с его ценностными характеристиками – трансцендентальностью и непостижимостью, величием и превосходством. Небо находится над всем земным, оно всё видит – отсюда его всеведение. Оно внешне по отношению ко всем предметам мира, поэтому оно – «дом» всего мира. Небо – активная творческая сила, источник блага и жизни, субстанция человеческой души-дыхания, небо – душа универсума, воплощение абсолютной духовности.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
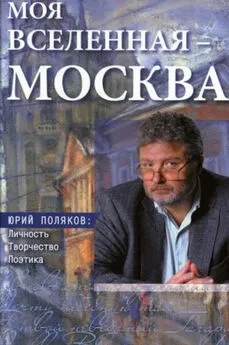



![Коллектив авторов - Испытание реализмом [Материалы научно-теоретической конференции «Творчество Юрия Полякова: традиция и новаторство» (к 60-летию писателя)]](/books/1071829/kollektiv-avtorov-ispytanie-realizmom-materialy-nauchno-teoreticheskoj-konferencii-tvorchestvo-yuriya-polyakova-tradiciya-i-novatorstvo-k-60-letiyu-pisatel.webp)
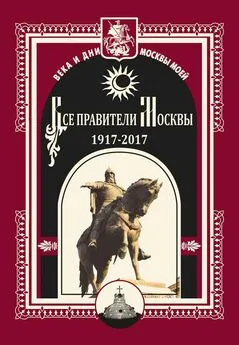

![Коллектив авторов - Вера и личность в меняющемся обществе [litres]](/books/1143889/kollektiv-avtorov-vera-i-lichnost-v-menyayuchemsya-obch.webp)