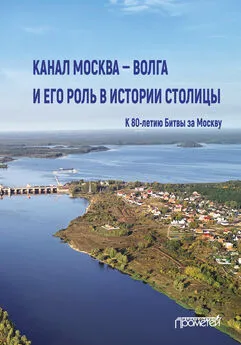Коллектив авторов - Моя вселенная – Москва». Юрий Поляков: личность, творчество, поэтика
- Название:Моя вселенная – Москва». Юрий Поляков: личность, творчество, поэтика
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:ИПО «У Никитских ворот» Литагент
- Год:2014
- ISBN:978-5-91366-943-8
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Коллектив авторов - Моя вселенная – Москва». Юрий Поляков: личность, творчество, поэтика краткое содержание
Моя вселенная – Москва». Юрий Поляков: личность, творчество, поэтика - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
«Если бы кто сказал мне в тот миг, что буквально через два-три года эти занюханные барыги, эти серые деловые мыши превратятся в миллионеров, летающих похмелиться на Канары и покупающих дома в лучших районах Лондона, я бы расхохотался и ответил: мой милый, вы ошиблись, семинар сказочных фантастов закончился на прошлой неделе…» [1, II, 197].
Другая не менее откровенная «наводка» – в «Небе падших»: «Поскреби нынешнего российского миллиардера – найдёшь или комсомольского функционера, или активиста» [1, II, 405].
Голос повествователя и голос героя сливаются в едином слове: использование «теневыми» людьми прежних советских структур для создания собственных вызывает эффект идеологического бумеранга. Советскость закономерно переходит в неорусскость, сохраняя в реабилитационной системе попранной национальной идентичности прежние подавляющие механизмы, причём в более жестоком варианте.
Можно сказать, такой перенос – структурообразующий элемент в организации повествования. В «Побеге» репрессированного при советской власти стихотворца избирают в парламентский Комитет по правам человека. И что же? Знаменитый правозащитник, жертва брежневского тоталитарного режима, «все свои выступления гнёт в одну сторону – мол, пока нас гнобили в мордовских лагерях, вы тут перед прежним режимом пресмыкались». Вывод: «Всех, кто не пресмыкается перед нынешним режимом, нужно срочно отправить в мордовские лагеря!» [1, II, 275].
Идеологический, ролевой бумеранг и порождает постсоветскость как новое «химерическое понятие» (Л. Гумилёв). Прежнее подавление русскости рождает новое подавление – причём русских русскими же. Жертвами истории становятся и вновь оболваненный народ, и «гавроши русского капитализма» [1, II, 402], пытающиеся выстроить своё личное светлое будущее, подобно герою «Неба падших», в виде «времянок на руинах советской авиации» [1, II, 406] (читай: цивилизации. – А. Б.).
Ещё до своего печального конца (вероятно, из-за измены телохранителя) удачливый «гаврош капитализма» предлагает своему будущему летописцу: «Давайте выпьем за русский народ! Знаете, когда всё это началось, я думал, через год, максимум через два нас всех на вилы поднимут. Ничего подобного. Наоборот, сын трудового народа Толик меня и охраняет. За народ!» [1, II, 400]. Мнимый апофеоз народа превращается в «апофегей» его же оглупления. История повторяется, принимая всё более изощрённые варварские формы. К примеру, в сцене «печально знаменитого побоища ветеранов войны» [1, III, 278].
Побег из сгущающихся сумерек поствремён. Побег из перевёрнутого мира смещённых идентичностей. Побег из бесконечного тупика исторического самоповтора. Побег из советскости как псевдорусскости и неорусскости как постсоветскости…
Удастся ли вырваться из этого заколдованного круга – в сферу подлинных смыслов и ярких красок? Да где она? Существует ли на самом деле эта бабочка-грёза, очередной мираж житейского счастья, или – реальность того «иного», «другого», «лучшего», что вечно зовёт русскую душу за три моря, за край Ойкумены, в пропасти и бездны томительного в своих извечных загадках бытия?
Интересно религиозно-философское истолкование главного концепта-образа, вложенное автором в уста возлюбленной Шарманова. Именно она накануне своей гибели проясняет суть повести о любви и ненависти:
«– Куда попадают люди после смерти?
– Конечно, на небо! – уверенно ответила она.
– На небо попадают праведники. А грешники?
– И грешники тоже – на небо. Просто есть два неба, совершенно одинаковых… Но на одном живут праведники, поэтому оно стало раем. А на втором живут грешники, поэтому оно стало адом, или небом падших. Всё очень просто.
– А куда мы с тобой попадём после смерти?
– Конечно, на небо падших. Мы будем с тобой, взявшись за руки, падать в вечном затяжном прыжке» [1, II, 509].
Этот диалог оставляет ощущение двойственности: удаль, храбрость человеческая проявляются в погоне за целями, низменность которых осознаётся героями с самого начала. Мотив «земли и неба» в истории обогащения нового русского низводится в сферу обмана и надувательства. «Земля и небо» – так называется кооператив, с которого и начинается затяжной финансовый прыжок героя, умеющего делать деньги буквально из воздуха: взимать плату с жаждущих острых ощущений за прыжок с бесхозной ранее вышки.
Двойные смыслы раскалывают «небо падших», реальность заблудших в ней душ и нераскаявшихся грешников – на подлинную и мнимую, внешнюю и внутреннюю, всё более скукоживающуюся в формы дна, щели, омута, где влачат своё существование неудачники и «удачливые» рабы собственной плоти, велений тела и влечений мятежного духа. Как в «Колодце пророков» Ю. Козлова (1996) и «Отречённых гимнах» Б. Евсеева (2003), «Тени гоблина» В. Казакова (2007), в произведениях Ю. Полякова возникает образ подземной Москвы— ямы, дна как места обитания социально деклассированных и отверженных. В то же время низведение искусства в «щель» подземного перехода – повесть «Подземный художник» (2001) – сочетается с открытием красоты как подлинного лика мира. В эпизоде с написанием портрета героини «рублёвым гением»[10, 14] – так именует жена нового русского своего «подземного художника» – эстетический эффект создаётся объединением в одной реплике «низких» и «высоких» смыслов: «рублёвый гений» и «древнерусский живописец Андрей Рублёв».
В «Колодце пророков» Ю. Козлова подземная Москва конкурирует с безлюдным нагромождением слоистых облаков – «небесным… антигородом»[2, 153]. Небо над столицей уподоблено «перевёрнутому колодцу»[2, 24], а облака кажутся «фрагментами второго над первым городом людей – города падших анге-лов»[2, 211–212]. Через ассоциации с Ницше, Горьким, «Сумерками просвещения» Розанова самораскрывается «феномен так называемого сумеречного сознания»[2, 24] советской интеллигенции 1970-х.
В «Возвращении блудного мужа» образ сумеречного мира создаётся приёмом двойной экспозиции: на катастрофу мнимую накладывается катастрофа подлинная. Волей случая попавший на телешоу «Семейные неурядицы» блудный муж, сам в реальности втянутый в круговорот семейных неурядиц, потрясён откровениями собравшейся публики – бездной человеческих страстей, заблуждений, обмана и поруганных надежд. Каково ж было его удивление, когда в Доме кино он неожиданно встречает всех участников телешоу, оказавшихся просто-напросто нанятыми актёрами: маски сорваны, лица обнажены в откровенной фальшивости тех, кто ещё два часа назад чуть не сорвал его «душу своими муками» [10, 149]. Повествование о «блудном муже», точнее, о бездомности, неприкаянности современного человека, завершается погружением героя на дно подземной Москвы. «Наконец принесли водку. Калязин выпил две рюмки подряд и понял, что сегодня лучше всего ему переночевать на вокзале…» [10, 150].
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
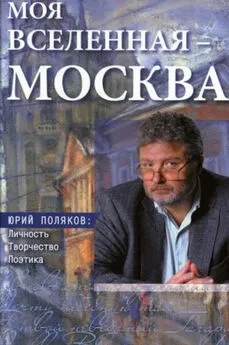



![Коллектив авторов - Испытание реализмом [Материалы научно-теоретической конференции «Творчество Юрия Полякова: традиция и новаторство» (к 60-летию писателя)]](/books/1071829/kollektiv-avtorov-ispytanie-realizmom-materialy-nauchno-teoreticheskoj-konferencii-tvorchestvo-yuriya-polyakova-tradiciya-i-novatorstvo-k-60-letiyu-pisatel.webp)
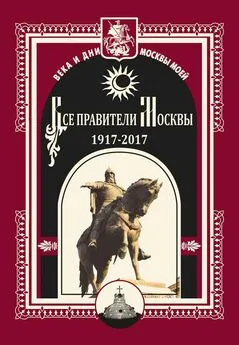

![Коллектив авторов - Вера и личность в меняющемся обществе [litres]](/books/1143889/kollektiv-avtorov-vera-i-lichnost-v-menyayuchemsya-obch.webp)