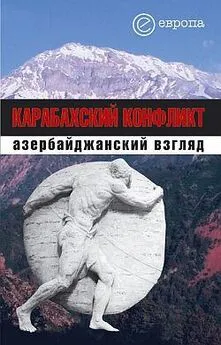Коллектив авторов - Проклятые критики. Новый взгляд на современную отечественную словесность. В помощь преподавателю литературы
- Название:Проклятые критики. Новый взгляд на современную отечественную словесность. В помощь преподавателю литературы
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Литагент Прометей
- Год:2021
- Город:Москва
- ISBN:978-5-00172-188-8
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Коллектив авторов - Проклятые критики. Новый взгляд на современную отечественную словесность. В помощь преподавателю литературы краткое содержание
Этот сборник – первая, не имеющая аналогов, попытка обобщить альтернативный взгляд на нашу новую словесность.
Книга будет полезна филологам, школьным и вузовским преподавателям литературы, а также всем, кто хочет самостоятельно разобраться в том, каких современных российских писателей действительно стоит читать и пропагандировать, а про каких достаточно знать, что они лауреаты «Большой книги» или «Букера».
Проклятые критики. Новый взгляд на современную отечественную словесность. В помощь преподавателю литературы - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Нет, я Пушкина люблю, уважаю и даже готов подписаться, что Наше Все – действительно молодец. Взять ту же его поездку в 1829 году на войну, на Кавказ. Одна дорога чего стоила – поездов-то не было. Сутками трястись в коляске да верхом скакать, а кое-где и пешком пробираться, по колено в грязи, под ледяным дождем – это не каждый выдюжит. К тому же и шмальнуть могли из-за любого камня на горных склонах – такой уж там озорной народ, что раньше жил, что и сейчас местами проживает. Плюс разразившаяся в то время чума. Кстати, Пушкин не побоялся и чумной лагерь посетил из любопытства. Да и в военном лагере ему по душе пришлось.
Прилепинская книга «Взвод» мне очень нравится. Ее на любом месте можно открыть и с интересом читать.
Да вот хотя бы:
«Лошадь Чаадаева пронеслась мимо. Пика стояла горизонтально, как дерево, готовое распуститься».
Многие Прилепина хулят за горизонтальное стояние, а я всегда защищаю: надо понимать важность тропов приапического свойства в творчестве автора. Горизонтальное дерево, готовое распуститься – это тоже, кстати, из этой же серии. Про распущенных девиц наверняка.
И вот в этой замечательной книге про русских литераторов-офицеров и ополченцев Захару Прилепину понадобилось слепить из Александра Сергеича (а из кого же еще?!) настоящего боевого взводного. А как, если Пушкина в армию не брали и воинских званий он не имел?
И вот литератор и публицист принимается придавливать пальцем чашу:
«Тем не менее, при первой же возможности Пушкин, хоть и оставаясь гражданским человеком, переоделся в военную форму и с настоящим упоением поучаствовал в нескольких делах летом 1829-го на одном из фронтов русско-турецкой. О чем с гордостью, на всех основаниях, написал:
“Был и я среди донцов,
Гнал и я османов шайку,
В память биты и шатров
Я привез домой нагайку”.
…Получается, что и в этом – военном – смысле фигура его оказывается всеохватывающей, неотменяемой, определяющей».
Действительно, Пушкин написал ряд превосходных «военных произведений». Уже одних «Полтавы» с «Войной» хватило бы с лихвой для места в пантеоне писателей-патриотов.
Где же обман? А, как всегда, в деталях.
«Переоделся в военную форму».
Ну, конечно. Наверняка и мундир подобрал с погонами по вкусу. Приносит денщик генерала Раевского, а то и самого графа Паскевича ворох мундиров в шатер, и кланяется: «Выбирайте, Ляксандр Сергеич. Вот тут у нас, значица, казачьего хорунжия мундирчик, а то вот и штабс-капитанский имееца, с вензелечками, не извольте сумлеваца…».
Разумеется, ни в какую военную форму Пушкин не переодевался. Это Захар любит в военную форму переодеваться, выезжая «в поля». А раньше с этим было все несколько строже. Поэтому разъезжал Пушкин по лагерю в изысканном своем сюртюке или добротном фраке, а на плечи наброшена была бурка. На голове – смешная круглая шляпа, маленький цилиндр. Солдаты принимали поэта за «батюшку», а пленные турки – за лекаря.
«С настоящим упоением поучаствовал».
Тут частичная правда. Пребывание среди военных Пушкина однозначно радовало. «Лагерная жизнь мне очень нравилась. Пушка подымала нас на заре. Сон в палатке удивительно здоров. За обедом запивали мы азиатский шашлык английским пивом и шампанским, застывшим в снегах таврийских».
Вот в один из дней, во время послеобеденного отдыха войска (что важно для понимания случившегося казуса), турки и атаковали передовую цепь казаков. Упоенный (в прямом смысле слова – английским пивом и охлажденным в снегах шампанским) Пушкин, давно мечтавший сразиться с басурманами, сначала прыгает и бьет в ладоши, потом выбегает из шатра, вскакивает на лошадь, хватает (по одним свидетельствам – саблю, по другим – казацкую пику) и мчит куда-то «в бой». Приставленный генералом Раевским приглядывать за солнцем русской поэзии несчастный капитан Н.Н. Сенчев теряет дар речи, несется за ним вслед, едва успевает схватить лошадь Пушкина под узды и увести его восвояси. Повезло еще и в том, что Юзефович с уланами успел уже турок оттеснить подальше.
Многое время спустя Хармс, сочиняя рассказы про Пушкина, уверял читателей, что Пушкин любил бросаться камнями, вместо ног приделал себе колеса и вообще был идиотом. Это, конечно, художественная вольность и преувеличение, но если и были в жизни Пушкина идиотские поступки, то вот этот «бой с турками» – один из ярчайших.
«Поучаствовал в нескольких делах».
Тут врет не столько Прилепин, сколько некий С. Дмитриев в журнале «Наш современник», в номере 11 за 2014 год, откуда Прилепин, очевидно, и начерпался «информации». Дмитриев же расстарался не на шутку, по дням расписал пушкинское «участие в боевых действиях»: такого-то числа «участвовал в перестрелке с турецкой кавалерией», такого-то – «в преследовании отступавшего противника», а еще в «походе к крепости Гассан-кале» и «в самом взятии Арзрума». Ну прямо готовый сценарий «Универсальный солдат. Начало». В цилиндре и фраке, с казацкой пикой наперевес. Из которой он и стрелял, очевидно, по туркам-кавалеристам. Хотя пику в руках Пушкин вполне мог и подержать – даже есть его собственноручный шутливый рисунок, где он изобразил себя на коне и с пикой. Что он мог ей сделать, учитывая, что казаки с младых лет учились владению этим на первый лишь взгляд простым оружием, – сам Пушкин благоразумно умалчивает (как и о своей «пьяной атаке» – этот подвиг, понятное дело, не вошел в его очерк о путешествии на Кавказ, как и все выдуманные некими исследователями его биографии перестрелки с кавалериями и взятия городов).
Впрочем, еще в одном «военном деле» Пушкину принять участие довелось, и об этом он, как раз не таясь, рассказал. Полковник Анреп ошибочно предположил наличие на одной из гор турецкого отряда в 3000 человек и с эскадроном Уланского полка поскакал туда. Раевский послал подкрепление, за которым увязался Пушкин (потому что он «почитал себя прикомандированным к Нижегородскому полку»). «Проехав верст 20, въехали мы в деревню и увидели несколько отставших уланов, которые, спешась, с обнаженными саблями преследовали нескольких кур». Один из селян растолковал, что полковика Анрепа они всего лишь просили вернуть им 3000 волов, угнанных турками несколько дней назад…
На этом военные подвиги А.С. Пушкина на той Кавказской войне были закончены. Что за «гордость» и что за «все основания», на которых, по мнению Прилепина, поэт написал про преследование им османов и привезенную нагайку – не очень понятно. Хотя, конечно, тот же граф Паскевич подарил ему на память турецкую саблю и Пушкин ее хранил «памятником моего странствования вослед блестящего героя по завоеванным пустыням Армении». То есть сам Пушкин в очерке о поездке довольно правдиво и скромно насчет своих «трофеев» говорит. Ну а стихи и их лирический-героический герой – это уже совсем, совсем другое дело.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: