Умберто Эко - Роль читателя. Исследования по семиотике текста [litres]
- Название:Роль читателя. Исследования по семиотике текста [litres]
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Литагент Corpus
- Год:2016
- Город:Москва
- ISBN:978-5-17-093385-3
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Умберто Эко - Роль читателя. Исследования по семиотике текста [litres] краткое содержание
Роль читателя. Исследования по семиотике текста [litres] - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
При использовании этого подхода возможны два решения.
Во-первых, можно прямо взывать к тем ощущениям и впечатлениям, которые уже были открыты и описаны другими. Так, в главе XIV седьмой части есть такой пассаж: «Пусть читатель, для того чтобы лучше представить себе эту картину, вспомнит о том, какой таинственный, почти фантастический вид приобретает комната, в которой пламя очага борется с огромными тенями, подрагивающими на стенах и на потолке».
Автор избавляет себя от необходимости самому описывать данное впечатление и просто отсылает читателя к déjà vu [260].
Во-вторых, можно просто использовать «общие места». Так, образ Сесили, прекрасной и коварной мулатки, целиком взят из экзотическо-эротического арсенала, восходящего к романтизму. Попросту говоря, это нечто вроде олеографии, созданной по определенным рецептам: «Разумеется, все слыхали разговоры о темнокожих женщинах, общение с которыми гибельно для европейцев, об этих обольстительных вампирах: они опьяняют свою жертву, прельщают ее своими ужасными чарами, высасывают из нее до последней капли золото и кровь, так что злополучному мужчине остается только одно – глотать свои слезы и глодать свое сердце, как выражаются в народе».
Это решение, пожалуй, хуже первого: берется из вторых рук уже не литературное «общее место», а просто шаблон массового сознания. И здесь Эжен Сю демонстрирует большой талант: он как бы изобретает китч для бедных. Он создает свою олеографию не из элементов Искусства, а, как мозаику, из кусочков других, прежде существовавших олеографий. В наши дни это называлось бы «поп-артом» – но было бы приправлено иронией.
Даже то, что некоторые критики, как, например, Ж.-Л. Бори, считают стихийной и мощной игрой архетипов, сводится на самом деле к подобным стилистическим пастишам [261]: образы злодеев, в духе И. К. Лафатера [262], возводятся к образам из животного мира и часто даже имеют соответствующие имена (например, Сычиха); Жак Ферран – это помесь Гарпагона с Тартюфом; пара Грамотей (после того, как его ослепили) и Хромуля, жуткое чудовище, – это гротескное превращение пары Эдип – Антигона; наконец, Флёр-де-Мари, vierge souillée [263], – образ с почтенной романтической генеалогией. Эжен Сю конечно же играет с архетипами, обнаруживая немалую культуру и недюжинный талант. Но при этом он не делает роман дорогой, ведущей через миф к познанию ( à la Томас Манн), а всего лишь использует проверенные «модели», которые должны произвести заданный эффект. Китч, таким образом, служит здесь удачно придуманным инструментом фантазии, предлагающим реальности решение ее проблем согласно заранее составленному плану.
Еще один способ усиления эффекта, гарантирующий его действенность, – чрезмерное затягивание некоторых сцен. Смерть Жака Феррана, жертвы сатириазиса [264], описана с точностью клинического учебника и с избыточностью магнитофонной записи. Вместо того чтобы дать художественное преображение события, писатель как бы воспроизводит его «в натуре»: событие длится именно столько, сколько оно длилось бы в реальности; персонаж произносит, нередко повторяясь, столько же полубессвязных фраз, сколько сказал бы реально умирающий человек. И эти повторы не образуют никакой художественной структуры. Эжен Сю просто валит все в одну кучу, не останавливаясь, так что в конце концов читатели, даже самые тупые, погружаются «по горло» в эту драматическую ситуацию – и задыхаются вместе с выдуманным персонажем.
Повествовательные структуры этого типа – средство выражения тех идеологических установок, которые мы обнаружили у Эжена Сю как автора Тайн. Нет необходимости задаваться вопросом, что первично, а что вторично: предшествовала ли в творческом процессе автора идеологическая позиция изобретению данного типа повествования или, наоборот, данный тип повествования, изобретенный в угоду «рынку», повлек за собой определенную идеологическую позицию. В действительности происходит многоплановое взаимодействие различных факторов, но единственный объект, который дан нам для исследования, – это сама книга как она есть. Было бы также неверно утверждать, что выбор жанра романа-фельетона с неизбежностью приводит к консервативной и умеренно-реформистской идеологии или что консервативная и реформистская идеология должна непременно порождать роман-фельетон. Мы можем лишь сказать, что в романе Эжена Сю различные ингредиенты сочетаются таким-то и таким-то образом.
Если мы обратимся к истории «перевоспитания» Флёр-де-Мари, то столкнемся с проблемой, которая проявляется сходным образом и на идеологическом уровне, и на уровне повествования:
a) имеется проститутка (социальный «тип», для которого в буржуазном обществе твердо установлены определенные черты);
b) эта проститутка стала таковой в силу обстоятельств (она безвинна), но все же она именно проститутка (несет на себе это клеймо);
c) Родольф убеждает ее, что она может возродиться, и проститутка начинает новую жизнь;
d) Родольф обнаруживает, что это его дочь, принцесса крови.
Таким образом, на читателя обрушиваются один за другим несколько театральных эффектов. Это действенно как способ (метод) повествования, но в плане общественной морали преступает границы должного. Еще чуть-чуть – и стало бы уже совсем невыносимо. Так, Флёр-де-Мари не может стать еще и счастливой правительницей герцогства. Читатель лишился бы всякой возможности идентифицировать себя с романной ситуацией в целом. Поэтому Флёр-де-Мари умирает, истерзанная угрызениями совести. Именно этого должен был ожидать всякий уважающий себя читатель, исходя из своих представлений о божественной справедливости и общественных приличиях. Новые идеи, приобретенные по ходу романа, тускнеют на фоне традиционных устоев, которые получают мудрое подтверждение. Автор сначала поражает читателя, говоря ему то, чего он прежде не знал, а затем успокаивает, повторяя уже известное. Механизм романа требует, чтобы Флёр-де-Мари завершила свои дни именно так, как она это сделала. Идеологические установки самого Эжена Сю, человека своего времени, привели его к религиозному разрешению этой линии сюжета.
И именно здесь анализ К. Маркса и Ф. Энгельса предстает перед нами во всем своем совершенстве. Флёр-де-Мари поняла, что она может возродиться к новой жизни, и благодаря своей молодости начинает испытывать подлинное человеческое счастье. Когда Родольф говорит ей, что она будет жить на ферме в Букевале, она радуется безмерно. Но постепенно, под влиянием благочестивых наставлений мадам Жорж и священника, «естественная», «человеческая» радость девушки превращается в «сверхъестественное», «сверхчеловеческое» беспокойство. Мысль о том, что ее грех не может быть прощен, что Божие милосердие не минует ее лишь «вопреки» всей тяжести ее преступления, уверенность в том, что здесь, на земле, ей никогда не будет полного прощения, – все это постепенно приводит несчастную Певунью (Goualeuse) [265]к глубокому отчаянию. «С этого момента Мария становится рабой сознания своей греховности. Если прежде она в самой злополучной обстановке сумела развить в себе черты привлекательной человеческой индивидуальности и при внешнем крайнем унижении сознавала свою человеческую сущность как свою истинную сущность, то теперь эта грязь современного общества, задевшая ее снаружи, становится в ее глазах ее внутренней сущностью, а постоянное ипохондрическое самобичевание по этому поводу делается ее обязанностью, предначертанной самим Богом жизненной задачей, самоцелью ее существования» [266] [267].
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
![Обложка книги Умберто Эко - Роль читателя. Исследования по семиотике текста [litres]](/books/1148669/umberto-eko-rol-chitatelya-issledovaniya-po-semioti.webp)







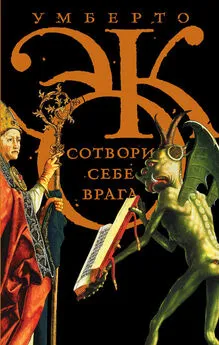
![Умберто Эко - С окраин империи. Хроники нового средневековья [litres]](/books/1150337/umberto-eko-s-okrain-imperii-hroniki-novogo-sredn.webp)