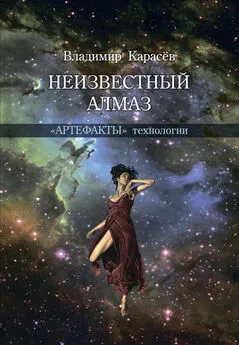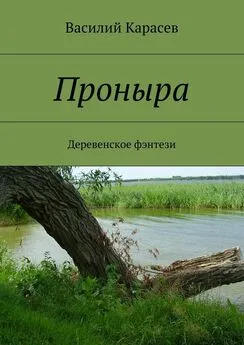Леонид Карасев - Гоголь в тексте
- Название:Гоголь в тексте
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Литагент «Знак»5c23fe66-8135-102c-b982-edc40df1930e
- Год:2012
- Город:Москва
- ISBN:978-5-9551-0379-2
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Леонид Карасев - Гоголь в тексте краткое содержание
Книга посвящена изучению творчества Н. В. Гоголя. Особое внимание в ней уделяется проблеме авторских психотелесных интервенций, которые наряду с культурно-социальными факторами образуют эстетическое целое гоголевского текста. Иными словами, в книге делается попытка увидеть в организации гоголевского сюжета, в разного рода символических и метафорических подробностях целокупное присутствие автора. Авторская персональная онтология, трансформирующаяся в эстетику создаваемого текста – вот главный предмет данного исследования.
Книга адресована философам, литературоведам, искусствоведам, всем, кто интересуется вопросами психологии творчества и теоретической поэтики.
Гоголь в тексте - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Все, о чем шла речь, не более чем предположение, однако если иметь в виду принудительную силу законов творчества в целом и сюжетосложения в частности, то проведенное сопоставление имеет некоторый смысл. Совсем уже упрощая и, само собой, огрубляя ситуацию, можно сказать: «мини-“Ревизор”», разыгранный на сцене четвертой главы «Мертвых душ», должен был завершиться сходным образом с «Ревизором» настоящим – бегством героя и явлением того, кто должен был навести порядок и восстановить справедливость. Так оно и случилось.
Тема финального бегства подводит нас к последнему примеру двойного использования сюжета у Гоголя. Я имею в виду две внешне столь мало похожие друг на друга вещи, как пьеса «Женитьба» и рассказ «Коляска». Здесь можно говорить, прежде всего, об общей повествовательной схеме, которой, собственно, сходство и исчерпывается. Если попытаться описать сюжеты обеих историй предельно обобщенно, свести их в один сюжет, то он будет выглядеть приблизительно так. Некий персонаж делает предложение, которое принимается теми, кому оно делается. В «Женитьбе» это Подколесин, который делает предложение Агафье Тихоновне. В «Коляске» – Чертокуцкий, который предлагает устроить бал и приглашает на него господ офицеров. Далее следует фаза ожидания исполнения предложения или приглашения. В «Женитьбе» она дана в развернутом виде (приготовления к свадьбе, волнения невесты и жениха), в «Коляске» – в свернутом: читатель просто знает о том, что приглашенные на бал офицеры ждут назначенного срока, чтобы приехать к Чертокуцкому в имение.
В финале в обоих случаях случается очевидный конфуз: предложению-приглашению не суждено сбыться, поскольку в самый последний момент персонаж-инициатор оказывается не в состоянии исполнить обещанное. Подколесин сбегает с собственной свадьбы, выпрыгнув в окошко. Чертокуцкий прячется от приехавших господ офицеров в каретном сарае, забравшись под фартук коляски. Если говорить о подробностях, то в принципе можно сказать, что Подколесин спрятался от невесты в том же самом месте, что и Чертокуцкий: ведь выпрыгнувши из окошка, он тут же оказался в коляске («потом, как выскочили, взяли извозчика и уехали»).
Концовки подобного рода, которые можно было бы в кантовском духе, хотя и по другому поводу, определить как превращение напряженного ожидания в ничто, вообще характерны для Гоголя: нечто похожее можно увидеть в «Игроках» или «Портрете». В первом случае в финале торжествует «надувательская земля», во втором, – гениальный портрет превращается в «незначащий пейзаж», в нечто «мутное». В этом смысле можно говорить о многократном применении одного и того же хода в финале повествования, превращающего его во что-то оборванное, в фикцию. Конечно, использование одних и тех же сюжетных схем, прилаживание их к самому различному материалу не является исключительной особенностью одного только Гоголя. Однако можно с достаточной степенью уверенности сказать, что ни один из заметных русских писателей не прибегал к подобному приему так часто и успешно, как Гоголь.
«Повесть о том, как поссорился Иван Иванович с Иваном Никифоровичем»
(О конструкции и смысле названия)
Название этой повести стоит особняком от всех остальных гоголевских сочинений. Во-первых, это самое длинное из всех его названий, что особенно хорошо заметно на фоне преобладающих у Гоголя коротких заголовков («Нос», «Вий», «Коляска», «Портрет», «Шинель», «Ревизор», «Женитьба» и пр.). Во-вторых, это единственное из названий, где употреблен глагол, в данном случае глагол «поссорился».
Необычность названия поддерживается и особенностями его конструкции или композиции. Мне часто приходилось ловить себя на том, что я не мог по памяти правильно (то есть как у Гоголя) написать название означенной повести. Всякий раз приходилось открывать книжку и смотреть, как именно там написано. Ошибочных вариантов было два: «Повесть о том, как поссорились Иван Иванович с Иваном Никифоровичем» и «Повесть о том, как Иван Иванович поссорился с Иваном Никифоровичем». Правильный же вариант, а именно «Повесть о том, как поссорился Иван Иванович с Иваном Никифоровичем», приходил на ум последним; возможно, потому, что слово «поссорился» располагалось не там, где оно должно быть при «нормальном» построении предложения [123].
Словесные инверсии вообще характерны для гоголевской фразы; это особенность его стиля, состоящая в произвольности, непредсказуемости местоположения того или иного слова. Это то, что еще Пушкин назвал «неровностью и неправильностью» гоголевского слога [124]. Подчас вообще складывается впечатление, что Гоголь, написав «правильную» последовательность слов, затем вынимает одно или два слова со своих законных мест и ставит их в другие – достаточно неожиданные.
В случае же названия повести о двух поссорившихся соседях можно предположить, что дело заключается не только в означенной авторской манере, но и в том смысле, который в этом названии присутствует. Если прочитать название, не предполагая, что оно может значить нечто большее, чем кажется на первый взгляд, то особых вопросов не возникнет: вот жили два соседа-приятеля, жили и однажды поругались. Однако если бы так оно и было, то почему бы Гоголю не написать: «Повесть о том, как поссорились Иван Иванович с Иваном Никифоровичем»? Или: «Повесть о том, как Иван Иванович поссорился с Иваном Никифоровичем»? Однако нет: в названии мы видим не множественное число «поссорились», а единственное – « поссорился ». Причем это «поссорился» выделено и подчеркнуто тем, что стоит не «нормальным» образом между именами двух соседей, а в самом начале названия перед именем «Иван Иванович». Собственно, и само то, что имя Ивана Ивановича поставлено первым также указывает на его особую в этом деле роль.
Можно предположить, что таким образом Гоголь хотел подчеркнуть главную особенность произошедшей ссоры: соседи не просто поругались друг с другом, то есть были оба в равной степени неправы, а поругались прежде всего по вине Ивана Ивановича (то, что он человек недобрый, видно уже из сцены с нищенкой в самом начале повести»). Именно Иван Иванович оказался той стороной, которая столь легко возбудилась, а затем уже не хотела идти ни на какие компромиссы. Как пишет Гоголь, сравнивая характеры обоих персонажей, по виду Ивана Никифоровича «трудно узнать, доволен ли он, или сердит», тогда как Иван Иванович «если ж чем бывает недоволен, то тотчас дает заметить это».
Дальнейшее течение событий как раз на такую расстановку позиций и указывает. В начале повести Иван Иванович и Иван Никифорович говорят о погоде, и Иван Никифорович, ругая жаркий день, ввертывает черта:
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: