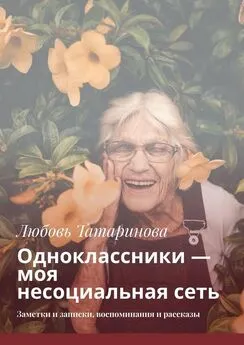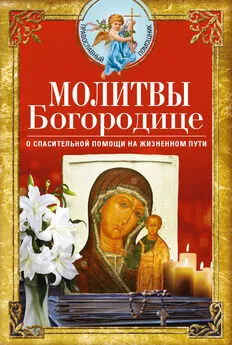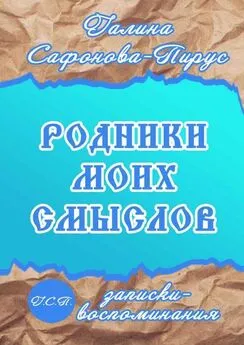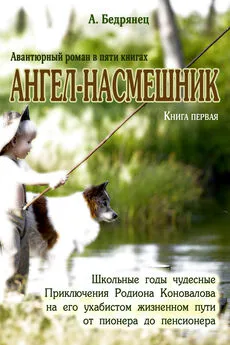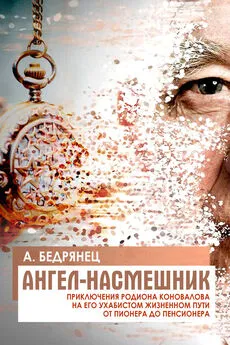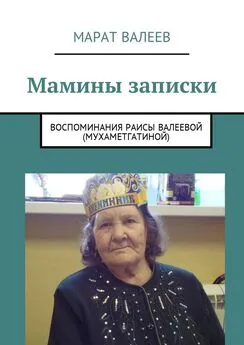Захарий Френкель - Записки и воспоминания о пройденном жизненном пути
- Название:Записки и воспоминания о пройденном жизненном пути
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Нестор-История
- Год:2009
- Город:СПб.
- ISBN:978-5981-87362-1
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Захарий Френкель - Записки и воспоминания о пройденном жизненном пути краткое содержание
Для специалистов различных отраслей медицины и всех, кто интересуется историей науки и истории России XIX–XX вв.
Записки и воспоминания о пройденном жизненном пути - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
«Обследуемый — хорошо сохранившийся пожилой мужчина, довольно бодрый и живой. Читает без очков. Слышит хорошо. Прихрамывает на одну ногу. Говорит, что год рождения его 1772. Натурщик Академии Художеств, кустарь (по его словам), рисовал вывески, был электромонтёром. Хорошо, по его словам, помнит 1-е марта 1881 г. Обо всём другом — впечатление позднейшей заученности: Исаакиевский собор, наводнение 1824 г. („Медный всадник“). По физическому состоянию и интеллектуальному функционированию — человек лет 70–75, самое большее — 80. Был в эвакуации, а до апреля 1942 г. пережил всё тяжёлое время блокады и голода в Ленинграде (нужно этот период тщательно обследовать). В 1915 г. получил повестку явиться в воинское присутствие, как ополченец (в 143 года!?). Отец умер от туберкулёза. Помнит смерть матери. Давно умерли братья. Он один, по его словам, задержался в жизни. Просил посодействовать восстановлению у него телефона. Документов у него никаких достоверных нет. В паспорте записи с его слов. У меня не осталось никакого ясного впечатления — откуда и когда у него явилась фантазия стать 175-летним; был ли это индуцированный бред периода старческих причуд? В связи с чем он зародился и укрепился? В какой мере здесь „корыстная целевая установка“ или слабоумие старческой изобретательной фантазии. Женат ли он? — Нет, он не женился, а „записался“ в 1921 г. (когда ему было полтораста лет?) с „молоденькой“ 70-летней женщиной, но ей и теперь что-то тоже вроде 75 лет (это очевидно нужно выяснить и обследовать). О супружеских отношениях: „…с нею — нет, нет, разумеется, об этом не было и речи, только некоторое хозяйственное удобство в жизни“».
Вообще нужно обследование психиатра и Шерлока Холмса.
Затея свидетельствуемого — прослыть почти бессмертным. Я просил мою сотрудницу по Институту обследовать на дому условия жизни Лемана. Ей удалось найти в доме, где до войны 1941 г. жил Леман В. О., старую домовую книгу, где Леман записан родившимся не в 1772 г., а в 1882 г. Случайная ошибка при выдаче нового паспорта вызвала у Лемана глупую мысль прослыть 175-летним.
В марте 1947 г. я был командирован Ленинградским институтом коммунального хозяйства в Москву для участия в обсуждении в Госплане разработанного в ЛНИИКХе проекта ограждения города от наводнений. Основную часть проекта составляет сооружение дамбы от г. Ломоносова до острова Котлина и от Котлина до Лисьего Носа, с воротами для пропуска судов во время начального подъёма воды. Главные расходы в несколько сот миллионов рублей предусматривались в проекте на сложные металлические конструкции дамбы. Однако, при всех вариантах для ограждения от затопления при нагоне воды из моря, требовалась подсыпка низких частей Васильевского острова, Петроградской стороны, Кировского и некоторых других районов на 1–2 метра. Расход на подсыпку составлял несколько десятков миллионов рублей.
Моё изучение подъёмов воды в Неве и затоплений более низких густо заселённых районов Ленинграда в 1908–1910 гг. оставило у меня убеждение, что фактически в осенние месяцы от нагонных затоплений больше всего страдает население от небольших подъёмов воды в 1½-2½ метра, крупные же наводнения с подъёмом воды до 3½-5 метров бывают относительно редко.
Очерёдность сооружения дамбы в проекте предусматривалась технически формально стройная: в ближайшую пятилетку постройка заводов для производства металлических конструкций и железобетонных изделий, затем строительство дамбы и, наконец, — через 5–10 лет — подсыпка. В Госплане я настойчиво отстаивал другую очерёдность: прежде всего, — осуществить подсыпку заниженных частей территории Ленинграда до отметок в 2–2½ метра над ординаром. Эта мера не требовала предварительного сооружения заводов и в то же время сама по себе давала огромный эффект, подымая санитарное состояние заниженных территорий и ограждая их от бедствий затопления и подтопления при ежегодных малых нагонных наводнениях.
С трудом удалось мне подвинуть инженеров-проектировщиков на пересмотр вопроса очерёдности развёртывания и осуществления проекта ограждения Ленинграда от наводнений.
Несмотря на то, что в первой половине 1947 г. я был чрезмерно перегружен научной и лекционной работой в двух институтах, составлением отзывов и выступлениями в качестве официального оппонента по докторским и кандидатским диссертациям (Векслера, С. П. Попова, Коломийцева и др.), я, тем не менее, охотно откликнулся на приглашение Р. Н. Зельдовича [345]выступить на конференции Института коммунального хозяйства с обобщающим докладом о задачах и перспективах развития коммунального строительства в условиях послевоенного восстановления.
Конференция проходила в ленинградском Доме архитекторов, в одном из известных пышностью художественно-архитектурной отделки прежних петербургских особняков. Я выступил против принижения значения коммунального строительства и хозяйства, как системы обеспечения реальных и первоочередных запросов населения на удобное, здоровое, технически хорошо оборудованное жилище, на всестороннее благоустройство населённых мест. Только при удовлетворении этих запросов следует думать об архитектурно-художественном оформлении всего города, отдельных жилых комплексов и каждого отдельного жилища. Жилищно-коммунальное, инженерно-техническое и санитарно-гигиеническое строительство и оборудование населённых мест — это такое же призвание, как и призвание художника и архитектора. Этими положениями было проникнуто моё определение задач и перспектив послевоенного восстановления Ленинграда.
Доклад мой собрал большую аудиторию, в которой было немало моих прежних слушателей 1923–1933 гг. по Институту коммунального хозяйства, и встретил полное понимание и одобрение. К моему большому удовлетворению, доклад был без всяких искажений напечатан в трудах конференции.
В течение весны и всего лета я руководил также подготовкой докладов ко Всесоюзному санитарно-эпидемическому съезду в Москве, намеченному Наркомздравом СССР на начало осени. Постановлением Наркомздрава я был включён в состав организационного комитета съезда. На заседании ленинградского отделения Всесоюзного гигиенического общества (ЛОВГО) я предложил свой план подготовительных работ по организации съезда и мобилизации широкого к нему внимания санитарных врачей и гигиенистов. Общество выбрало комиссию из представителей гигиенических кафедр для обеспечения своевременной заявки и предварительного рассмотрения докладов к съезду. Руководство работой этой комиссии в течение всего лета поглощало у меня много времени.
В конце мая сильно ухудшилось состояние здоровья Любови Карповны. У неё была признана двусторонняя пневмония. Положение больной было настолько тяжёлым, что скорая помощь поместила её в Лесновский стационар на Новосильцевской улице. Ежедневно, возвращаясь домой, я навещал ослабевшую, но мужественно подчинявшуюся всем процедурам и сульфамидовому лечению Любовь Карповну. Выздоровление шло очень медленно. Лежавшие вместе с нею больные с трогательным вниманием относились к Любови Карповне и делились с нею своими житейскими горестями.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
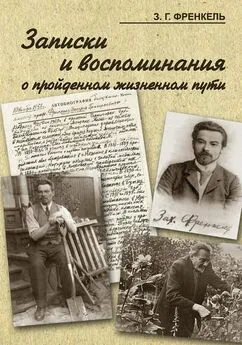
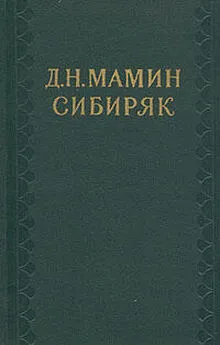

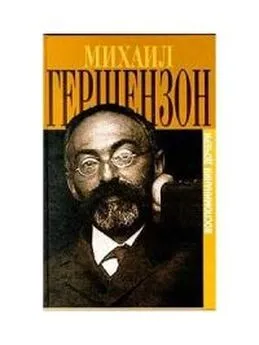
![Николай Фигуровский - Я помню... [Автобиографические записки и воспоминания]](/books/1060000/nikolaj-figurovskij-ya-pomnyu-avtobiograficheskie.webp)