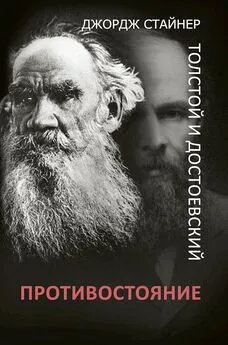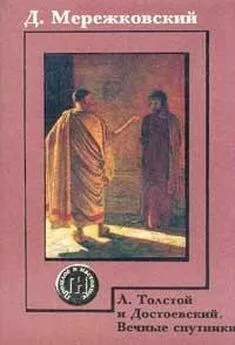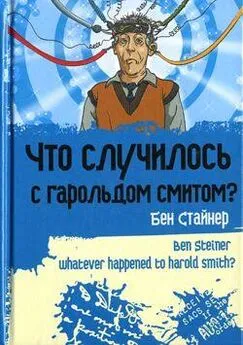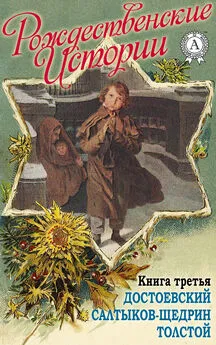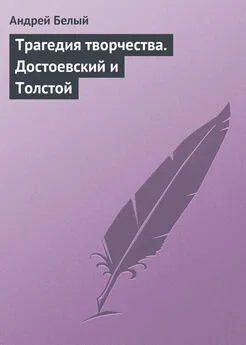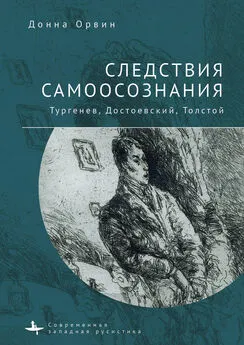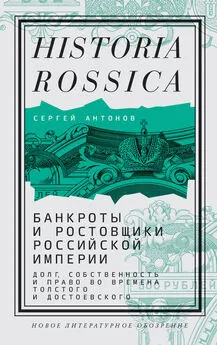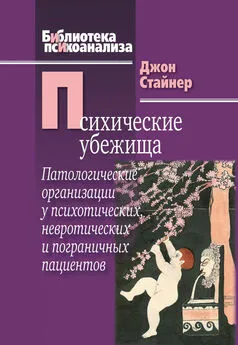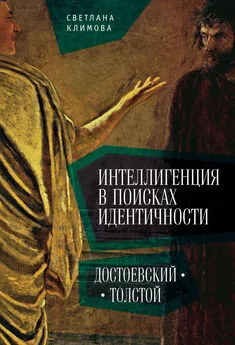Джордж Стайнер - Толстой и Достоевский. Противостояние
- Название:Толстой и Достоевский. Противостояние
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:АСТ
- Год:2019
- Город:Москва
- ISBN:978-5-17-104873-0
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Джордж Стайнер - Толстой и Достоевский. Противостояние краткое содержание
«Ни один английский романист по величию не сравнится с Толстым, столь полно изобразившим жизнь человека как с частной, так и с героической стороны. Ни один английский романист не исследовал душу человека так глубоко, как Достоевский», — говорил знаменитый писатель Э. М. Форстер.
Американский литературный критик, профессор Джордж Стайнер посвятил Толстому и Достоевскому свой знаменитый труд, исследуя глубины сходства двух гениев и пропасти их различия.
Толстой и Достоевский. Противостояние - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
«… Я сочту, что вы мне, а не я сделаю честь. Я ничто, а вы страдали и из такого ада чистая вышли, а это много».
Резкий ответ Настасьи, что все это «из романов», и что «куда тебе жениться, за тобой самим еще няньку нужно» — абсолютно ясный и, по-видимому, окончательный. Но в возникшем галдеже он остается незамеченным. Дабы придать предложению князя реальную форму, Достоевский прибегает к приему, который в те дни даже для популярной мелодрамы уже считался несвежим. «Идиот», еще нынче утром вынужденный взять в долг у генерала двадцать пять рублей, достает из кармана письмо, где сказано, что он наследует огромное состояние. Казалось бы, не оправданный никакими сюжетными или рациональными обоснованиями, этот фокус, тем не менее, «проходит» — просто в силу накаленности окружающей обстановки. Атмосфера столь напряжена, а хаос столь близко придвинулся к пределам возможного, что метаморфоза нищего в принца воспринимается нами как очередной оборот вращающейся сцены.
Настасья охвачена пламенем хохота, гордости и истерики — переходы между нюансами чувств наблюдаются в течение всей сцены. Она вне себя от явного восторга — ведь теперь она княгиня, которая может отомстить Тоцкому или указать на дверь генералу Епанчину. Достоевскому нет равных в таких полугорячечных монологах, когда человек пляшет вокруг собственной души. Рогожин, наконец, постигает, что произошло, и искренность его страсти несомненна:
«Он всплеснул руками, и стон вырвался из его груди:
— Отступись! — прокричал он князю».
Мышкин сознает, что страсть Рогожина сильнее и, в физическом смысле, она более подлинная. Но он вновь обращается к Настасье:
«Вы горды, Настасья Филипповна, но, может быть, вы уже до того несчастны, что и действительно виновною себя считаете».
Но, может, и нет. Фактов, укрепляющих ее чувство опозоренности, похоже, более чем достаточно. Князь хочет понять, не достигает ли гордость своих самых сладких высот в самоуничижении, и таким образом касается одного из лейтмотивов «достоевской» психологии. Безмятежная ясность его реплики выводит Настасью из экстатического безумия. Она вскакивает с дивана:
«А ты и впрямь думала? [обращаясь к Дарье Алексеевне]… Этакого-то младенца сгубить? Да это Афанасию Иванычу в ту ж пору: это он младенцев любит!»
Это она с жестоким ехидством намекает на то, что Тоцкий впервые выказал к ней сексуальный интерес, еще когда она была совсем девочкой. Объявив, что стыда у нее не осталось, и что она была «наложницей Тоцкого», Настасья наказывает князю жениться на Аглае. Достоевский не пояснил нам, откуда у нее могла взяться такая идея. Поддалась ли она в слепом ясновидении своей неприязни к Гане? Или успела где-то услышать о впечатлении, которое «идиот» произвел на Епанчиных? Нам неизвестно. Мы лишь принимаем тот факт, что в пылу действия персонажей могут посещать озарения. Сам язык выкладывает все свои секреты.
Рогожин уверен, что выиграл поединок, и щеголяет своей «королевой», задыхаясь от изнеможения и желания. Мышкин горюет, и Настасья пытается утешить его, преувеличивая собственную низость. Но она еще не все уладила с Ганей и своими покровителями. Ей тем вечером пришлось проползти через такую грязь, что теперь хочется заставить поползать кого-нибудь еще — только в физическом смысле. Она швыряет рогожинские сто тысяч в камин. Если Ганя вытащит деньги из огня, они достанутся ему.
Достоевский вызвал верховные силы тьмы, и читать эту сцену довольно мучительно. Не исключено, что ее корни лежат в балладе Шиллера «Перчатка». Любопытно, что подобный инцидент имел место в 1860-е годы в доме одной дамы из парижского полусвета. Она приняла у себя поклонника, которого презирала, сказала ему выложить кругом тысячефранковые купюры и потом позволила ему заниматься с ней любовью, но лишь пока купюры не догорят.
Гости Настасьи загипнотизированы этим испытанием. Лебедев полностью теряет самообладание. Он готов сунуть в огонь голову. Он вопит: «Больная жена без ног, тринадцать человек детей — все сироты, отца схоронил на прошлой неделе, голодный сидит». Он лжет, но вопли его подобны стенаниям проклятого. Ганя стоит, не шевелясь, с безумной улыбкой на «бледном как платок лице». Ликует лишь Рогожин; в этой пытке ему видится свидетельство Настасьиного неистового духа и ее эксцентричной независимости. Фердыщенко предлагает вытащить деньги зубами. Отчетливо животный оттенок его предложения усиливает нравственную и психологическую грубость сцены. Фердыщенко пытается тянуть Ганю к огню, но тот с силой отталкивает его и поворачивается выйти из комнаты; не сделав и двух шагов, он падает в обморок. Настасья спасает из огня деньги и объявляет, что они теперь — его. Действие и агония (наша теория драмы основана на радикальном сродстве этих двух понятий) близятся к завершению. «Рогожин, марш! [выкрикивает Настасья] Прощай, князь, в первый раз человека видела».
Я цитирую эту фразу вопреки собственному намерению. Это единственное место в романе, показывающее всю ущербность работы через переводы. И в английской версии Констанс Гарнет, и во французском тексте Муссе, Шлецера и Луно в этой фразе Настасьи под «человеком» однозначно понимается князь. Смысл нам ясен: Настасья отдает дань уважения Мышкину, поскольку в сравнении с ним остальные люди кажутся ей грубыми и несовершенными. Однако альтернативное прочтение (его подсказал мне один русский филолог) подразумевает более глубокий и релевантный смысл. Тем жутким вечером Настасья буквально впервые увидела человека как такового. Она стала свидетелем крайностей благородства и развращенности; ей открылся весь потенциал человеческой природы.
Настасья с Рогожиным уносятся прочь на фоне шумных прощаний. Мышкин спешит следом, запрыгивает в сани и мчится вдогонку за летящими тройками. Епанчин, чей хваткий ум начинает обдумывать новость о богатстве князя и Настасьин настоятельный совет Мышкину жениться на Аглае, пытается остановить князя, но тщетно. Суматоха и хаос идут на спад. В столь характерном для драматургии романтизма «эпилоге на заре» Тоцкий с Птицыным бредут домой, обсуждая экстравагантное поведение Настасьи. Перед закрытием занавеса мы видим Ганю лежащим на полу рядом с опаленными деньгами. Трое главных персонажей драмы мчатся по дороге в Екатерингоф, и бубенцы тройки затихают вдали.
Вот так прошли первые сутки князя Мышкина в Петербурге. Не возьмусь судить, насколько этот факт уместен, но все же добавлю, что во время работы над первой частью «Идиота» писатель перенес два особо сильных эпилептических припадка.
Даже беглое отрывочное знакомство с текстом показывает, что Достоевскому драматический метод казался наиболее близким природе человека. Позднее я попытаюсь сузить этот постулат и покажу, как Достоевский реализовал свой трагический взгляд в стратегии и традиции мелодрамы. Но главные принципы видны уже в первой части «Идиота». Главенствующая роль отведена диалогу. «Развязки в эпизодах» (по выражению Аллена Тейта) достигаются схожим образом: и у Гани дома, и на приеме у Настасьи элементы действия и риторики равномерно распределены. Мы имеем хор, два главных явления, кульминационный жест — пощечина и испытание огнем — и уход со сцены, продуманный так, чтобы оборвать разгон драмы полной завершенностью. Своей прямотой и энергией (а это, как напоминают нам русские критики, не то же самое, что словесное изящество) «достоевский» диалог совпадает с эмоциональным строем и традициями театра. «Иногда кажется, — отмечает Мережковский, — что оттого только не писал он трагедий, что внешняя форма эпического повествования — романа — была случайно преобладающею формой современной ему литературы, и также оттого, что не было для него достойной трагической сцены, а главное, достойных зрителей». Я бы поспорил только с термином «эпическое повествование».
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: