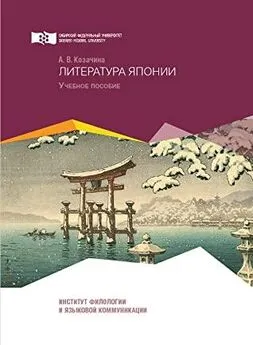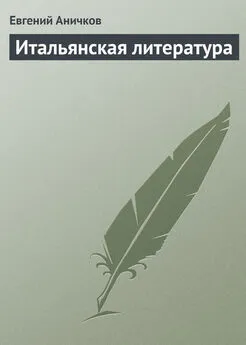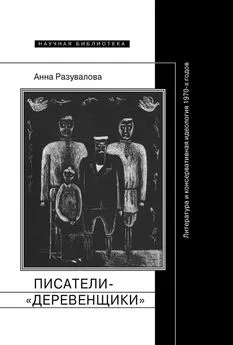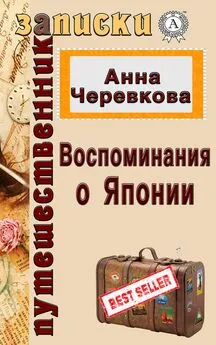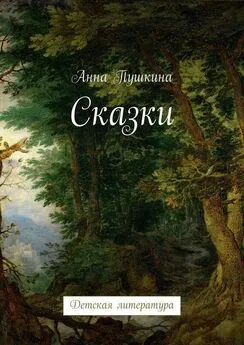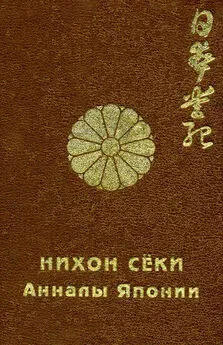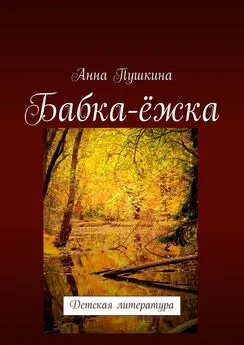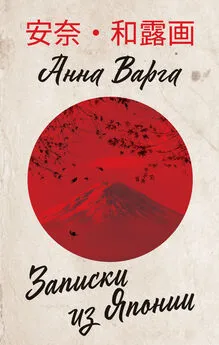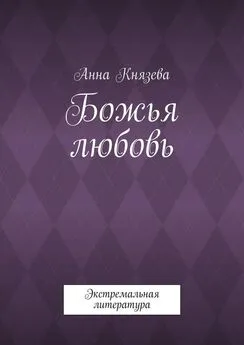Анна Козачина - Литература Японии
- Название:Литература Японии
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Сибирский федеральный университет
- Год:2019
- Город:Красноярск
- ISBN:978-5-7638-4023-0
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Анна Козачина - Литература Японии краткое содержание
Предназначено для студентов бакалавриата, обучающихся по направлению подготовки 45.03.02 «Лингвистика».
Литература Японии - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Хонэн и Синран отделили религию не только от государственной власти, но и от государства, все перенеся на человека. Нитирэн вернул буддизму заботу и об обществе, и о государстве. В этом и состоит одна из важнейших особенностей учения Нитирэна: оно выводило буддизм из универсализма, вселенского во времени и в пространстве, и вводило его в локализм — в сферу определенности во времени и в пространстве; переключало его из мира человечества вообще в мир определенного народа. Именно по этой причине за Нитирэном и утвердилась слава создателя «японского буддизма», а его «японские настроения», понятные и нужные в свое время, впоследствии стали одним из источников тех националистических тенденций, которые не раз в последнее столетие прорывались на поверхность общественной жизни Японии и даже определяли ее государственную политику.
Система жанров эпохи Камакура.События, происходившие в стране, легли в основу как письменного, так и устного творчества. На дорогах страны можно было встретить «бива-хоси» («монахи с бива») — бродячих сказителей, которые вели сказ о воинских делах, то есть о главных событиях эпохи. Особенно интересно это было, конечно, для воинов, так как речь шла в первую очередь о них, но также увлекало и крестьян, из рядов которых и выходили будущие самураи. Самой популярной темой была борьба двух лагерей — «восточного» с домом Минамото во главе и «западного» во главе с домом Тайра.
Гунки. Творчество в этой сфере не ограничилось лишь формой сказа: из него родилась и литература эпохи, главный вид которой — эпическая поэма. В Японии ее назвали гунки — «описание войн», или сэнки, — «описание сражений». Сказания записывались, обрабатывались, соединялись в сюжетные циклы; циклы сцеплялись друг с другом, в результате получались целые эпопеи. «Хэйкэ-бива» — «Сказ под бива о Хэйкэ» (то есть доме Тайра) — превратился в две большие эпопеи: первая, самая знаменитая, стала называться по старому образцу — «Хэйкэ-моногатари», «Повесть о доме Тайра»; название второй составилось по образцу названия «Кодзики», старой историко-мифологической эпопеи — «Гэмпэй сэйсуйки», «Сказание о расцвете и упадке Минамото и Тайра».
Разумеется, эти сказания утрачивали свой первоначальный вид, так как записывались и переписывались не учеными-фольклористами, щепетильно относящимися к малейшей детали сказа, а монахами, которые хотели изложить этот сказ максимально, на их взгляд, грамотно, литературно. Сказания, как правило, дополнялись, уточнялись: ведь в распоряжении монахов были и старые хроники, дневники, оставшиеся от многих выдающихся деятелей прежней эпохи, а в этих материалах говорилось о тех же людях, о тех же событиях. Поэтому в ряде случаев в тексте эпопей чувствуется не только дыхание «книжности», но и ее прямое присутствие в виде переноса чего-нибудь из таких материалов.
С стилистической точки зрения гунки характеризуются прежде всего новым типом своего литературного языка: взамен хэйанского «вабун» представлен смешанный китайско-японский язык. Язык этот складывается из двух элементов совершенно различного происхождения, отражая фактическую картину разговорной речи Японии того времени, воспринявшей уже очень много китаизмов, но не вполне их еще усвоившей. Китаизмы в то время не были еще достаточно обработаны японским языком, не вошли органически в структуру японской речи. Гунки с этой точки зрения представляют собой любопытную картину введения в японский язык все еще достаточно чуждых иностранных элементов и нарушения в угоду им характерного строя японской речи: китаизмы выступают не только в лексическом облике, но и в синтаксическом строении фразы.
Кроме того, язык гунки характеризуется таким же смешением стилистических элементов речи — «изящных речений» и «вульгарных» выражений. Иначе говоря, в гунки можно найти и элементы языка хэйанских моногатари, и целый ряд простонародных слов. Это как нельзя лучше соответствует облику самого самурайства того времени: высшие слои были связаны с родовой знатью, те же Тайра, Минамото вели свое происхождение от рода самих императоров; простое же дворянство было тесно связано с народными массами, с крестьянством. В обиходе первых имели хождение изящная лексика и все изысканные обороты речи хэйанских аристократов; в среде вторых жил японский народный язык.
Новый язык еще не создался: все эти элементы не получили пока своего гармонического объединения. Как китаизмы и японизмы, с одной стороны, так и изящный слог и вульгарная речь, с другой, существовали пока совершенно раздельно, обособленно друг от друга.
Изложение в гунки характеризуется чрезвычайной неравномерностью и неуравновешенностью в использовании семантических средств языка. Метафорические и метонимические украшения даются большей частью очень неумело: они создают то впечатление напыщенности и пустой риторичности, то излишней разукрашенности и нарочитости, иногда представляются как бы совершенно искусственным введением в слог, плохо вяжущимся с окружающей стилистической средой. Того виртуозного владения стилистической семантикой речи, которое можно наблюдать в хэйанской литературе, здесь не замечается вовсе.
Несмотря на всю эту стилистическую дисгармонию, гунки обладают своим собственным, совершенно особым стилистическим колоритом. Здесь одновременно присутствуют и хэйанский слог, и вульгарная речь, а китайские обороты, и так называемый стиль Адзума (полукитайский, полународный язык Канто). Может быть, именно такое соединение столь разнородных элементов и создает впечатление этого своеобразия. Получается характерный эффект живости, энергичности речи, изложение отличается совершенно неведомой для Хэйана силой.
В этом отношении «мужественность» слога гунки резко отличает их от «женственности» слога моногатари. Точно так же одновременное существование самых различных лексических элементов: изящных речений, вульгаризмов, китаизмов и буддийских выражений — создает необычайно живой и разнообразный ритм изложения. Той монотонности и однообразия, которые характерны для многих моногатари, больше нет; взамен — быстрая смена лексических типов, а отсюда отчасти и синтаксических конструкций; богатство оттенков различной семантической значимости, неожиданные повороты; другими словами, прихотливый ритм всего изложения. И в этом, несомненно, заключается наибольшая стилистическая прелесть гунки.
Наиболее выдающимся из всех этих «военных описаний» в эпоху Камакура считают четыре произведения: «Хогэн-моногатари», «Хэйдзи-моногатари», «Хэйкэ-моногатари» и «Гэмпэй-сэйсуйки». Все они говорят о той переходной эпохе, которая привела к крушению аристократической монархии, с одной стороны, и к началу военного управления страной самураями, с другой. Все они рисуют картины подымающегося сословия (военного дворянства), его постепенного усиления, его борьбы с придворной знатью, внутренних междоусобиц и, наконец, объединения и победы.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: