Вячеслав Недошивин - Литературная Москва. Дома и судьбы, события и тайны
- Название:Литературная Москва. Дома и судьбы, события и тайны
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:АСТ
- Год:2021
- Город:Москва
- ISBN:978-5-17-119691-2
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Вячеслав Недошивин - Литературная Москва. Дома и судьбы, события и тайны краткое содержание
В книге 320 московских адресов поэтов, писателей, критиков и просто «чернорабочих русской словесности» и ровно столько же рассказов автора о тех, кто жил по этим адресам. Каменная летопись книг, «география» поэзии и прозы и в то же время — захватывающие рассказы о том, как создавались в этих домах великие произведения, как авторам их спорилось, влюблялось и разводилось, стрелялось на дуэлях и писалось в предсмертных записках, истории о том, как они праздновали в этих сохранившихся домах творческие победы и встречали порой гонения, аресты, ссылки и расстрелы. Памятные события, литературные посиделки и журфиксы, сохранившиеся артефакты и упоминания прообразов и прототипов героев книг, тайны, ставшие явью и явь, до сих пор хранящая флёр тайны — всё это «от кирпичика до буквы» описано автором на документальной основе: на сохранившихся письмах, дневниках, мемуарах и последних изысканиях учёных.
Книга, этот необычный путеводитель по Москве, рассчитана как на поклонников и знатоков литературы, так и на специалистов — литературоведов, историков и москвоведов.
В формате PDF A4 сохранен издательский макет.
Литературная Москва. Дома и судьбы, события и тайны - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
186. Никитский бул., 7(с. п., мем. доска), — дом Д. С. Болтина, затем А. И. Талызина. Ж. — в 1810–20-х гг. — литератор, переводчик Дмитрий Сергеевич Болтин(первый переводчик «Исповеди» Ж.-Ж. Руссо и других сочинений). Впоследствии дом перешел к генерал-майору Александру Ивановичу Талызину, а затем к его родственнице — титулярной советнице Ольге Николаевне Талызиной. В 1840-х гг. в этом доме поселяется одесский градоначальник, будущий обер-прокурор Святейшего синода, генерал-адъютант, граф Александр Петрович Толстой. С 1848 г. в доме Толстого останавливался, а позже (с 1851 г.) и жил Николай Васильевич Гоголь. Здесь, на 1-м этаже, он прожил последние месяцы своей жизни, здесь сжег рукопись второго тома «Мертвых душ» и корректурные листы и здесь же, через 10 дней после этого, 4 марта 1852 г., скончался.
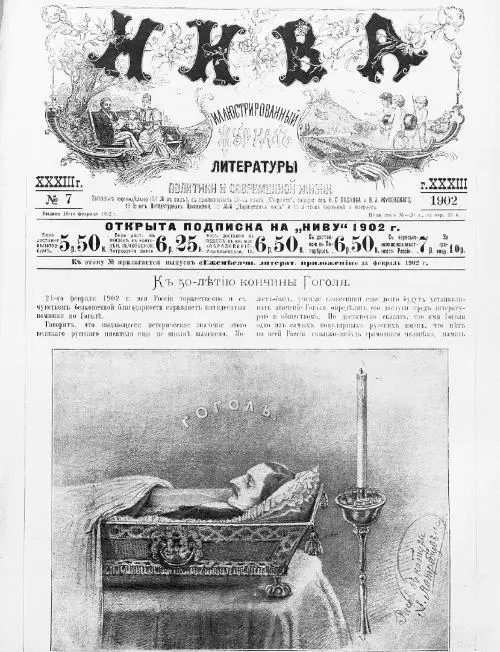
Н. В. Гоголь в гробу. Гравюр
Все это вам расскажут ныне в открытом здесь мемориальном центре «Дом Гоголя». Но не передадут то, что Гоголю и в страшном сне не могло присниться: как спустя 79 лет, в 1931 г., писатели переносили его прах на Новодевичье кладбище. Эпическая «картина», ее описал в дневнике тогдашний редактор «Нового мира» Вяч. Полонский:
«На днях переносили прах Гоголя, Языкова, Хомякова и нескольких других писателей… Торжественная церемония… Когда стали переносить останки — писатели стали разбирать их себе „на память“. Один отрезал кусочек сюртука Гоголя (Малышкин: он сам признавался мне, но стыдясь, — не знал, куда деть этот отрезок ткани), другой — кусочек позумента с гроба, который сохранился. А Стенич украл ребро Гоголя — просто взял и сунул себе в карман. В тот же день, зайдя к Никулину, просил ребро сохранить и вернуть ему, когда он поедет к себе в Ленинград. Никулин изготовил из дерева копию ребра и, завернутое, возвратил Стеничу. Вернувшись домой, Стенич собрал гостей — ленинградских писателей — и торжественно объявил, что является собственником ребра Гоголя. Всеобщее удивление и недоверие. Он торжественно предъявил ребро — гости бросились рассматривать и обнаружили, что ребро изготовлено из дерева… Позорная история! Никулин уверяет, что подлинное ребро и кусок позумента сдал в какой-то музей. Писатели вели себя возмутительно. Передают, будто они растаскали зубы Языкова — среди них называют Сельвинского».
В это трудно поверить ныне, но уже в 1960-х прозаик Лидин не без вальяжности вспоминал: «На сие действо собрались примерно тридцать человек, среди которых были Юрий Олеша, Михаил Светлов, Всеволод Иванов, Лидин… Сняли с могилы камень и голгофу… Когда открыли гроб, то увидели — о, ужас! — что череп великого писателя повернут набок. И многие утвердились в небезосновательном опасении Николая Васильевича (речь идет о том, что Гоголь опасался при жизни, что впадет в летаргический сон и его, приняв за усопшего, похоронят фактически живым. — В. Н. ). А по Москве моментально разнесся слух, что Гоголь перевернулся в гробу… Скелет лежал на спине. Часть сюртука табачного цвета, в котором он был похоронен, сохранилась. И костяшки пальцев ног были „вдвинуты“ в сапоги. У сапог дратва сгнила, и они, само собой, раскрылись, открыв конечности ступней».
И вот после того, как вскрыли гроб и произошла вакханалия по разграблению останков, Лидин признался, что взял себе хорошо сохранившийся кусок жилета табачного цвета с груди Гоголя. «Я, — вспоминал он, — первое издание „Мертвых душ“ окантовал в металл и вставил туда эту материю…»
Тамара Иванова позже рассказывала, что когда ее муж, известный писатель Всеволод Иванов, пришел с этого захоронения, он страшно возмущался: «Как можно после всего случившегося считать писателей высокодуховными людьми?!» Ведь из гроба кроме куска материи исчезли ребро, берцовая кость и, по уверению Лидина, один сапог.
«Проходит дня три, как рассказывает сам Лидин, звонит ему директор кладбища и говорит: „Я что-то спать не могу. Ко мне третью ночь подряд Гоголь приходит и говорит: `Давай назад ребро`!“ Лидин немедленно позвонил другому похитителю, писателю, который стащил берцовую кость. Тот тоже в недоумении: „Она у меня была в кармане пальто. С вечера вытащить забыл, а утром хватился — а ее уже и нет, исчезла“. И Лидин, эдак старчески улыбнувшись, рассказал: „Ну что же поделаешь, мы сговорились, собрали кое-что из того, что было взято, и под покровом ночи пробрались к могиле Гоголя, вырыли маленькую ямку и туда опустили“. И он, кстати, сказал, что если еще кто-нибудь додумается беспокоить прах Гоголя, то сначала наткнется на кость и сапог…»
К счастью, никто больше не беспокоил великого писателя. А «местью» его, образно говоря, стало почти полное забвение писателей-мародеров. А как еще можно назвать их?
187. Никитский бул., 8а(с. п.), — владение княгини Н. П. Головкиной (с 1826 г.), с 1872 по 1917 г. — дом купцов Прибыловых-Макеевых, с 1920 г. — Дом печати, позднее, с марта 1938 г. — Дом журналистов.
Здесь много чего происходило, место более чем публичное. Но если говорить о литературе, то с этим домом связаны три события.
Во-первых, здесь до 1831 г. жила вдова бригадира — Анастасия Михайловна Щербинина(дочь княгини Е. Р. Дашковой, директора Российской академии наук), у которой 20 февраля 1831 г. был на балу с Натальей Гончаровой только что женившийся на ней Александр Пушкин. Он же, кстати, бывал в этом доме и в 1836-м у нового хозяина дома — историка, дипломата и мемуариста Дмитрия Николаевича Свербеева.
Во-вторых, здесь в 1921 г. последний раз в Москве выступал приехавший из Петрограда Александр Блок. Как его встретили в Белом зале этого дома молодые, возбужденные недавней революцией москвичи, без слез читать невозможно.

Центральный Дом журналиста
«В „Доме Печати“ против Блока открылся поход, — вспоминал Корней Чуковский. — Он пришел туда и прочитал несколько стихотворений. Потом на сцену выскочил какой-то солдат и крикнул, что ничего не понял, что это „форменное безобразие“. А потом на эстраду взошел тот, кто, кажется, понял все: некий А. Струве, завлитотделом губернского Пролеткульта. Вот он-то и гаркнул: „Товарищи! я вас спрашиваю, где здесь динамика? Где здесь ритмы? Все это мертвечина, и сам товарищ Блок мертвец…“
В зале встала гробовая тишина. Ведущий вечера, молодой тогда поэт Павел Антокольский, промолчал. На защиту кинулся поэт Бобров, но, пишут, так кривлялся при этом, что напомнил клоуна. Потом, „раздувая пики усов“, за Блока вступился профессор Петр Коган и, ссылаясь на Маркса, стал доказывать, что на деле Блок — не мертвец. Вышло и жалко, и пошло. Но самым поразительным стало то, что Блок, услышав про „мертвеца“, закивает головой и за кулисами шепнет Чуковскому: „Верно, верно! — скажет. — Я действительно мертвец…“ Жить ему, добавлю, оставалось меньше трех месяцев…»
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
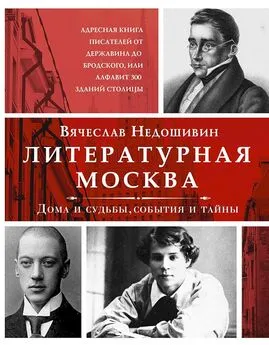
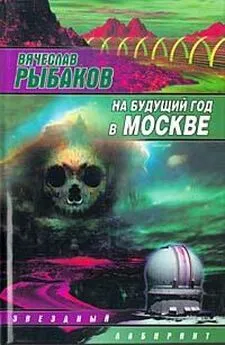



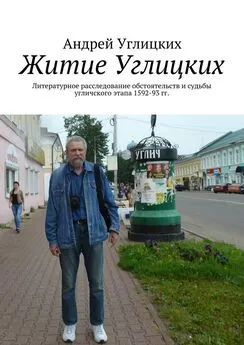
![Вячеслав Недошивин - Джордж Оруэлл. Неприступная душа [litres]](/books/1089688/vyacheslav-nedoshivin-dzhordzh-oruell-nepristupnaya-dush.webp)


