Вячеслав Недошивин - Литературная Москва. Дома и судьбы, события и тайны
- Название:Литературная Москва. Дома и судьбы, события и тайны
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:АСТ
- Год:2021
- Город:Москва
- ISBN:978-5-17-119691-2
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Вячеслав Недошивин - Литературная Москва. Дома и судьбы, события и тайны краткое содержание
В книге 320 московских адресов поэтов, писателей, критиков и просто «чернорабочих русской словесности» и ровно столько же рассказов автора о тех, кто жил по этим адресам. Каменная летопись книг, «география» поэзии и прозы и в то же время — захватывающие рассказы о том, как создавались в этих домах великие произведения, как авторам их спорилось, влюблялось и разводилось, стрелялось на дуэлях и писалось в предсмертных записках, истории о том, как они праздновали в этих сохранившихся домах творческие победы и встречали порой гонения, аресты, ссылки и расстрелы. Памятные события, литературные посиделки и журфиксы, сохранившиеся артефакты и упоминания прообразов и прототипов героев книг, тайны, ставшие явью и явь, до сих пор хранящая флёр тайны — всё это «от кирпичика до буквы» описано автором на документальной основе: на сохранившихся письмах, дневниках, мемуарах и последних изысканиях учёных.
Книга, этот необычный путеводитель по Москве, рассчитана как на поклонников и знатоков литературы, так и на специалистов — литературоведов, историков и москвоведов.
В формате PDF A4 сохранен издательский макет.
Литературная Москва. Дома и судьбы, события и тайны - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
«Я за пятнадцать лет не написал ни одной книги, потому что постоянно за что-то боролся, — признавался он, считайте, перед смертью. — Боролся за культуру — ведь столько грязи было в 80-е годы, она же не в 91-м только пришла, она пришла раньше. Нужно было бороться за культуру, за нравственность, и мы готовили закон о нравственности… Я бросился в публицистику, мне казалось: надо немедленно сегодня показать источник зла. Не мы выбираем, что нам делать. Существует сила, которая выбирала нас… когда Россию с потрохами продавали и дурачили…»
Не мной, жаль, замечено, а моим коллегой и другом Игорем Свинаренко, что здесь, в этом доме, писатель, как, впрочем, и в Иркутске, собирал колокольчики. «Был вечевой колокол, — пишет Игорь, — был герценовский, а теперь — не колокола, а колокольчики». И ведь тоже символика эта его «коллекция», и тоже, увы, не светлая. «Иногда подхожу к ним, — признавался… — Поглажу их, чтоб откликнулись перезвоном… Это как детская забава. Люблю смотреть на них, прежде чем начинаю работу».
Большую работу он так и не начал. И конечно, страшным ударом — громом посильнее вечевого колокола! — стала для него здесь смерть его талантливой дочери Маши — консерваторки, органистки и музыковеда, кандидата наук, которая до 2006 г. жила в этом же доме. Когда-то он уже пережил смерть сына-ребенка. И вот самолет, на котором его дочь улетела отсюда в Иркутск, в отпуск, врезался при посадке в бетонное ограждение, и 125 пассажиров сгорели в пожаре… Жуткая смерть. Но вспомнил ли тогда, что свою последнюю из лучших повестей, за которую ему дали вторую Госпремию в 1987 г., он назвал как-то и страшно, и, опять же, символично, — «Пожар»?
Он проживет еще девять лет и умрет в этом доме, где ныне висит ему мемориальная доска. Будет сражаться с «ветряными мельницами» славянофильства и западничества, пытаться найти ту «правильную истину», которой, судя по всему, и нет. «У нас это какая-то национальная болезнь. Мы не можем жить дружно, мы не можем делать общее дело, а если делаем, то обязательно с какимим-то скандалами, с какими-то подозрениями, разоблачениями… Вот это тяжело испытывать и наблюдать… Потому что люди талантливые, люди достойные уважения…»
Это-то и убивало его физически, крупнейшего прозаика ХХ в., убивало медленно, но непреклонно. Он, конечно, останется в истории русской литературы, его место по самому высокому счету прочно, но сколько замечательных слов он унес с собой в могилу.
«Старость, она ведь не делает человека красивее… Ни внешне, ни внутренне. Старость, она многое огрубляет в человеке. Выстужает его», — скажет незадолго до смерти. И, кажется, поймет все про тот «читательский рейтинг», про 3,9 %. Разве не полны трагизма слова его, из последних: «Мы тужимся восстанавливать разрушенное, складываем распавшиеся части воедино, но они выскальзывают из наших рук и рассыпаются без того цементирующего состава, который есть читательское внимание. Мы пытаемся склеивать разрозненные концы, но сухая бумага, не пропитанная сочувствием, не пристает к полотну…»
«Сухая бумага» — это публицистика под пером писателя — не живая проза. А «полотно», что это за полотно? Рискну досказать за классика: а полотно — это жизнь, которую ткет из всего, наверное, сам Бог. Полотно, в которое нас заворачивают в колыбели и которым накрывают в гробу.
274. Староконюшенный пер., 33(с.), — доходный дом (1901, арх. Е. И. Опуховский). Дом, конечно, уникальный, может, единственный в Москве, где стараниями его жильца и нашего современника, поэта и прозаика Юрия Александровича Паркаева, был открыт, представьте, общественный «Литературный музей».
Основания для возникновения его были весомыми. Здесь, в Коммуне пролетарских писателей, учрежденной в 1918 г., только официально жили полтора десятка писателей, а уж сколько останавливались — и не сосчитать. Образно говоря, здесь рождалась новая революционная литература: с новыми темами, новым языком и — новыми целями. И здесь, на этих этажах и за этими окнами, шло острое противоборство между двумя пролетарскими литературными объединениями — «Кузницей» и «Октябрем».
О каждом жильце этого дома не расскажешь, но перечислить живших здесь просто необходимо. Здесь в 1920–30-х гг. жили: прозаик, драматург, публицист, будущий гл. редактор журнала «Октябрь», ректор Литинститута (1944–1947), лауреат Сталинских премий (1950, 1951) Федор Васильевич Гладков; пролетарский поэт, первый председатель ВАПП (Всесоюзной ассоциации пролетарских писателей), председатель Московского отделения Всероссийского союза поэтов (с 1925 г.) Владимир Тимофеевич Кириллов; прозаик, будущий лауреат Сталинской премии (1941) Алексей Силыч Новиков-Прибой(Новиков) и — до 1924 г., до своего ареста по выдуманному делу «Ордена русских фашистов» и расстрела в 1925 г., — поэт, прозаик, близкий друг Есенина, Алексей Алексеевич Ганин.
Здесь же, в коммуне, жили: поэт, очеркист (автор книги «Дети улицы: Очерки московской жизни») Михаил Дмитриевич Артамонов, прозаик, редактор «Крестьянского журнала» (1926–1930), гл. редактор журнала «Октябрь» (1931–1954 и 1956–1960) и будущий лауреат Сталинских премий (1948, 1949) Федор Иванович Панферов; прозаик Николай Николаевич Ляшко(Лященко); прозаик и драматург Николай Александрович Степной(Афиногенов) и его сын — драматург Александр Николаевич Афиногенов; прозаик и драматург (повесть «Ташкент — город хлебный») Александр Сергеевич Неверов(Скобелев), поэт, переводчик, критик, ответредактор журналов «На посту» (1923–1925) и «Октябрь» (1924–1925) Семен Абрамович Родов,а также (в 1927–1942 гг.) литературовед, профессор, автор хрестоматий по литературе Мария Александровна Рыбникова.
Наконец, с 1922 по 1932 г. здесь, в квартире поэта и критика, редактора «Рабочего журнала» (1923–1925), автора книги «Литературные портреты» Георгия Васильевича Якубовскогособирались по четвергам члены объединения пролетарских поэтов и прозаиков «Кузница» и бывали (помимо живших в этом доме): Г. А. Санников, С. И. Малашкин, В. В. Казин, М. П. Герасимов, Г. К. Никифорови менее известные — С. А. Обрадович, В. Д. Александровский, Н. Г. Полетаев, И. Г. Филипченко, Ф. Г. Васюнин (Каманин), В. И. Бахметьев, И. Ф. Жига. А вообще «Кузницу», как группу и течение, поддерживали в те годы до 150 писателей и поэтов.
Увы, многих из живущих здесь впоследствии расстреляют. Одного из первых поэта, близкого друга Есенина, Алексея Ганина. Потом дойдет дело и до «Кузницы». Владимира Кириллова и Михаила Герасимова расстреляют 16 июля 1937 г. в Лефортове, в низеньком приземистом здании во дворе, в один день с Павлом Васильевым и Иваном Макаровым. И Герасимов, и Кириллов были не только друзья — это были самые известные пролетарские поэты, участники трех революций, прошедшие тюрьмы и ссылки. В тюрьме Герасимов напишет письмо-заявление Н. И. Ежову (его приводит поэт и историк литературы Виталий Шенталинский), которое, конечно, запредельно по унижению.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
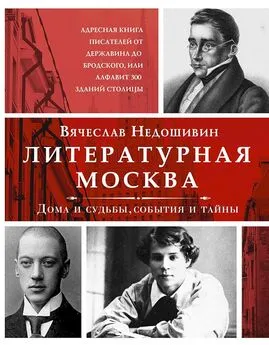
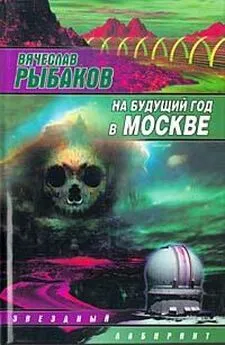



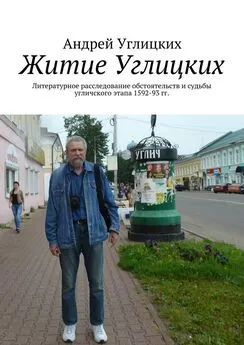
![Вячеслав Недошивин - Джордж Оруэлл. Неприступная душа [litres]](/books/1089688/vyacheslav-nedoshivin-dzhordzh-oruell-nepristupnaya-dush.webp)


