Вячеслав Недошивин - Литературная Москва. Дома и судьбы, события и тайны
- Название:Литературная Москва. Дома и судьбы, события и тайны
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:АСТ
- Год:2021
- Город:Москва
- ISBN:978-5-17-119691-2
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Вячеслав Недошивин - Литературная Москва. Дома и судьбы, события и тайны краткое содержание
В книге 320 московских адресов поэтов, писателей, критиков и просто «чернорабочих русской словесности» и ровно столько же рассказов автора о тех, кто жил по этим адресам. Каменная летопись книг, «география» поэзии и прозы и в то же время — захватывающие рассказы о том, как создавались в этих домах великие произведения, как авторам их спорилось, влюблялось и разводилось, стрелялось на дуэлях и писалось в предсмертных записках, истории о том, как они праздновали в этих сохранившихся домах творческие победы и встречали порой гонения, аресты, ссылки и расстрелы. Памятные события, литературные посиделки и журфиксы, сохранившиеся артефакты и упоминания прообразов и прототипов героев книг, тайны, ставшие явью и явь, до сих пор хранящая флёр тайны — всё это «от кирпичика до буквы» описано автором на документальной основе: на сохранившихся письмах, дневниках, мемуарах и последних изысканиях учёных.
Книга, этот необычный путеводитель по Москве, рассчитана как на поклонников и знатоков литературы, так и на специалистов — литературоведов, историков и москвоведов.
В формате PDF A4 сохранен издательский макет.
Литературная Москва. Дома и судьбы, события и тайны - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
289. Тверская ул., 12/2, стр. 8(с.), — Ж. — с 1970 по 1974 г. и с 1994 по 2002 г., на 1-м этаже — прозаик, публицист и мемуарист, академик АН РФ (1997), лауреат Нобелевской премии по литературе (1970) и Госпремии РФ (2006) — Александр Исаевич Солженицыни его вторая жена, мемуаристка Наталия Дмитриевна Солженицына(урожд. Светлова). Здесь начал работу над эпопеей «Красное колесо», в этом доме родились три его сына: Ермолай(1970), Игнат(1972) и Степан(1973). И здесь 12 февраля 1974 г. писатель, по решению Политбюро ЦК КПСС (7.1.1974), был арестован и выслан из СССР.
Крылечко цело, квартира цела, дом этот цел. Но никогда, ни при какой погоде, здесь бы не жил, да и в Москве бы не жил, скромный учитель из Рязани Александр Солженицын, если бы не его сосед по Тверской, живший почти напротив, в доме № 17, поэт и главный редактор «Нового мира» Александр Трифонович Твардовский. И, конечно, никакого лауреата Нобелевской премии Солженицына не было бы, если бы не еще один московский адрес — ул. Дыбенко, 32, корп. 3,— где жила тихая, скромная редакторша журнала Анна Самойловна Берзер. Теперь три этих имени в истории литературы неразрывны.

А. И. Солженицын (обыск в заключении)
Не забыть бы, как это было! Не без странностей. Учитель, например, послал рукопись в «Новый мир», прослушав смелое выступление Твардовского на ХХII съезде КПСС, когда тот был выбран кандидатом в члены ЦК КПСС. Послал без надежды. Рукопись, кстати, тоже называлась странно: «Щ-854».
Первой прочла рукопись Анна Берзер, редактор отдела прозы, и поняла, как пишет, что надо как-то «исхитриться» и «перебросить» рукопись прямо Твардовскому, минуя членов редколлегии. Тут надо сказать, что Твардовский вообще-то недолюбливал Берзер. Но она нашла нужные слова: «Лагерь глазами мужика, очень народная вещь». Пишут, что «нельзя было попасть точнее в сердце Твардовского!..». Солженицын скажет потом, что и сам надеялся на это: «Догадка-предчувствие у меня в том и была, что к этому мужику Ивану Денисовичу не могут остаться равнодушны верхний мужик Александр Твардовский и верховой мужик Никита Хрущев. Так и сбылось…»
Твардовский вспомнит потом, что вечером лег в кровать и взял рукопись. Однако почти сразу понял: лежа не почитаешь. Встал, оделся. Домашние его уже спали, а он всю ночь, перемежая с чаем на кухне, читал повесть — первый раз, потом и второй. Короче, в ту ночь он так и не лег. Так для Твардовского «начались счастливые дни открытия: он бросился с рукописью по своим друзьям и требовал выставлять бутылку на стол в честь появления нового писателя…». Будущий нобелиат напишет потом: его поразило в журнале прежде всего лицо Твардовского: «Детское выражение его лица, — откровенно детское, беззащитно детское, ничуть, кажется, не испорченное долголетним пребыванием в высоких слоях и даже обласканностью троном». А сам он, вызванный из Рязани, сидел в журнале мрачнее тучи: «Да не сошел ли я с ума? — думал про себя. — Неужели редакция серьезно верит, что это можно напечатать?» Но предложили лишь новое название. Не «Щ-854», а «Один день Ивана Денисовича». Да еще коллективно ахнули, узнав, что учитель зарабатывал в Рязани «60 р. в месяц». «Властно и радостно распорядился Твардовский заключить со мной договор по высшей принятой у них ставке (один аванс — моя двухлетняя зарплата). Я сидел как в дурмане…»
Лишь через 11 месяцев напечатали его повесть. И не напечатали бы, если бы 6 августа 1962 г. Твардовский не написал письмо самому Хрущеву: «Речь идет о поразительно талантливой повести А. Солженицына. Имя этого автора до сих пор никому не было известно, но завтра может стать одним из замечательных имен нашей литературы…» Солженицын спрашивал потом себя: «Кто из вельмож советской литературы до Твардовского или кроме него захотел бы и одерзел бы такую разрушительную повестушку предложить наверх?» И сам же отвечал — никто. Потом была встреча Твардовского с Хрущевым «голова к голове»: «Если я не обращусь к вам, эту талантливую вещь зарежут…» — «Зарежут», — тупо кивнул в ответ Хрущев… А уж когда Кремль разрешил печатать повесть, не автор, представьте, — редактор буквально разревелся в журнале. «Мог бы и удержаться, — напишет, — но мне и эта способность расплакаться в трезвом виде в данном случае была приятна самому».
Впрочем, по правде, и Солженицын расплакался, но позже, когда вычитывал в гостинице последнюю верстку журнала. Ведь все ему казалось мифом. А тут представил вдруг, «как всплывет на свет к миллионам несведущих крокодилье чудище нашей лагерной жизни», как важно это тем, кто «не доцарапал, не дошептал, не дохрипел своей тюремной судьбы», и — разрыдался.
Но был потом еще один эпизод, рассоривший соседей по Тверской. Речь шла о публикации в «Новом мире» романа Солженицына «Раковый корпус». Твардовский не то что печатать, заключить договор на его публикацию не хотел без «разрешения инстанций». «В этих опаданиях и приподыманиях, между его биографией и душой, в этих затемнениях и просветлениях, — вспомнит Солженицын, — его истерзанная жизнь. Он — и не с теми, кто всего боится, и не с теми, кто идет напролом. Тяжелее всех ему». На беду, КГБ переслал роман в журнал «Грани», и те телеграфировали из Франкфурта, что хотят печатать, но как? И вот тут Твардовский сказал писателю: он должен дать «отпор». «Вот наступает момент доказать, что вы — советский человек. Что тот, кого мы открыли, — наш человек… А иначе, Александр Исаевич, мы вам больше не товарищи!» И Солженицын был уже готов написать «отпор», но в кабинете, куда его отвели, на обороте той телеграммы из Франкфурта вдруг заметил черновик телеграммы Демичеву, тогда куратору всей советской культуры: «Многоуважаемый Петр Нилович! Я считаю, что Солженицын должен послать этому нэоэмигрантскому — откровенно враждебному нашей стране журналу свой отказ… Я пытался срочно вызвать Солженицына… Жду ваших указаний. Твардовский». И… не смог писатель написать «отпор». Все ему стало ясно, КГБ торгует его рукописью. Вот это и есть советское воспитание: «верноподданное баранство, гибрид угодливости и трусости».
Так родился в 1970 г. «литературный власовец» и — нобелевский лауреат. Он вернется в этот дом победителем. Но через 20 лет, в 1994 г. А тогда, 12 февраля 1974 г., сюда, к крылечку, подъехали две черные «Волги» и сотрудник 3-го отдела КГБ Николай Балашов, под видом «прокурорского работника» приказал писателю собираться. Солженицын надел заранее приготовленный ватник, черную шапку-ушанку (облачение зэка он сохранил с давних времен), взял собранный заранее рюкзак со всем необходимым в тюрьме и в сопровождении работников КГБ вышел… Вышел — войдя в историю!
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
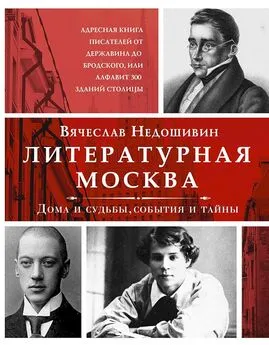
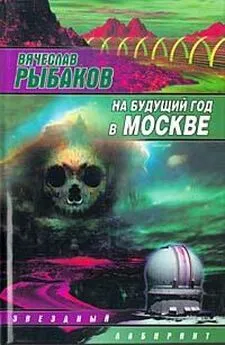



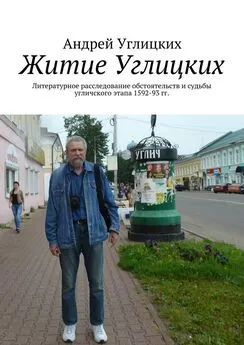
![Вячеслав Недошивин - Джордж Оруэлл. Неприступная душа [litres]](/books/1089688/vyacheslav-nedoshivin-dzhordzh-oruell-nepristupnaya-dush.webp)


