Вячеслав Недошивин - Литературная Москва. Дома и судьбы, события и тайны
- Название:Литературная Москва. Дома и судьбы, события и тайны
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:АСТ
- Год:2021
- Город:Москва
- ISBN:978-5-17-119691-2
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Вячеслав Недошивин - Литературная Москва. Дома и судьбы, события и тайны краткое содержание
В книге 320 московских адресов поэтов, писателей, критиков и просто «чернорабочих русской словесности» и ровно столько же рассказов автора о тех, кто жил по этим адресам. Каменная летопись книг, «география» поэзии и прозы и в то же время — захватывающие рассказы о том, как создавались в этих домах великие произведения, как авторам их спорилось, влюблялось и разводилось, стрелялось на дуэлях и писалось в предсмертных записках, истории о том, как они праздновали в этих сохранившихся домах творческие победы и встречали порой гонения, аресты, ссылки и расстрелы. Памятные события, литературные посиделки и журфиксы, сохранившиеся артефакты и упоминания прообразов и прототипов героев книг, тайны, ставшие явью и явь, до сих пор хранящая флёр тайны — всё это «от кирпичика до буквы» описано автором на документальной основе: на сохранившихся письмах, дневниках, мемуарах и последних изысканиях учёных.
Книга, этот необычный путеводитель по Москве, рассчитана как на поклонников и знатоков литературы, так и на специалистов — литературоведов, историков и москвоведов.
В формате PDF A4 сохранен издательский макет.
Литературная Москва. Дома и судьбы, события и тайны - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Впрочем, «звоночек» ли? Ведь зал в Клубе писателей в ноябре 1940 г., как писал Юрий Олеша, буквально скандировал одно слово: «Позор, позор!» Кричали после доклада Фадеева о 12 случаях прямого плагиата Лебедева-Кумача. Тексты были заимствованы у поэтов Палея, Тан-Богораза и некоторых других. Фадеев и на пленуме Союза писателей выступил с этими обвинениями, но дело «сверху» замяли. Более того, к ордену Трудового Красного Знамени поэта именно в 1940-м прибавился «Знак Почета». А потом случилось 22 июня 1941 г., и в квартиру Лебедева-Кумача позвонил редактор «Красной звезды» Давид Ортенберг: «Нужны стихи!» — «Когда?» — «Не позже завтрашнего утра». Так родилась воистину великая песня Великой войны: «Вставай, страна огромная…»
Не знаю, удалось ли ему потом убедить прежде всего себя, что это его песня? Ведь через полвека, в конце 1990-х, как и тогда на собрании писателей, вдруг выяснилось: текст «Священной войны» — классический плагиат. Эти стихи ему, как «авторитету песенного творчества», прислал из Рыбинска в 1941-м учитель латыни и поэт Александр Боде. Песню эту он написал еще в 1916 г. (он жил в то время в Москве, см. Карманицкий пер., 3), посвятив воюющей русской армии. И Кумач, возможно, не присвоил бы ее, если бы не узнал, что в те же дни А. Боде скоропостижно скончался. Ныне, после двух судов с родственниками «авторитета», все до буквы сверено и проверено. Лебедев-Кумач, конечно, «поработал» над текстом «самоучки», заменил, осовременивая, несколько слов, убрал две строфы и лично принес его Ортенбергу. Тоже ведь — «история» литературы…
Но судьба мстительна! Через четыре месяца он, пишут, схватил первый инсульт. Не из-за раскаяния. Просто в октябре, когда немцы рвались к Москве, он пытался впихнуть в вагон эвакуированных писателей все, вплоть до мебели. Тот же Фадеев, провожавший поезда, вспомнит потом: «Привез на вокзал два пикапа вещей, не мог их погрузить в течение двух суток и психически помешался» и — припечатает его: «Трусливый приспособленец»…
«Болею от бездарности, от серости жизни своей, — запишет Кумач в дневнике в 1946-м. — Все мелко, все потускнело. Ну, еще 12 костюмов, три автомобиля, 10 сервизов… и глупо, и пошло, и недостойно». Позже, не без опасения, допишет: «Рабство, подхалимаж, подсиживание, нечистые методы работы, неправда — все рано или поздно вскроется…»
Ему повесят доску на этом доме, его в 1949-м с почетом похоронят на Новодевичьем. А вот могила его соседа по дому, прекрасного поэта, прозаика и драматурга Переца Давидовича Маркиша, в том же году арестованного и расстрелянного, до сих пор не найдена. Тоже — история литературы. Но — каков дом?!
Кстати, настоящая, больше того — «официальная легенда» в этом доме жила. Я имею в виду свою коллегу по «Комсомольской правде», великолепную газетчицу, очеркистку и публицистку Инну Павловну Руденко. Она жила здесь с 1960-х гг. до своей кончины в 2016 г. И здесь, еще при жизни ее, Союз журналистов своим решением назвал ее (впервые, кстати, все в той же истории) — «легендой российской журналистики».
Все вместил, все эпохи попробовал «на вкус», все пережил этот дом!
295. Тверская-Ямская 4-я ул., 26/8(с., мем. доска), — дом кооперативного общества «Домохозяин». А доска на доме сообщает: здесь с 1936 по 1937 г. жил до своего последнего ареста и расстрела — поэт, прозаик, переводчик Павел Николаевич Васильев.
Сергей Клычков, сам недюжинный поэт, назвал его поэтом «с серебряной трубой, возвещающей приход будущего». И это не красивые слова. Вы не поверите, но в середине 1930-х уже Пастернак на каком-то поэтическом вечере отказался читать стихи после него. На эстраду вышел, но публике признался: он считает «неуместным и бестактным что-либо читать после „блестящих стихов“ Васильева». А Мандельштам скажет как-то: «В России пишут четверо: я, Пастернак, Ахматова и Павел Васильев». Ну, что тут добавишь? Васильев вообще, появившись в Москве, мгновенно стал «ослепительной фигурой» на фоне воцарившейся в литературе «диктатуры посредственности». А появился 20-летним.

«Неудобный поэт». На снимке — Павел Васильев
О нем «много болтали в ту пору, — вспомнит Галина Серебрякова. — Слыхала я, что рос он в Омске, в семье педагога, скитался, был матросом, хулиганом, пил, участвовал в какой-то сече, не все понял в нашей революции. Знала, что недавно вышел из-под следствия, в заключении, как Орфей под землей, пел стихи, пленив судей…» Здесь все — правда, кроме того, что арестовывали его за семь лет жизни в столице три раза. За эпатаж, хулиганство, драки, если в жизни, и за «кулацкие настроения» и открытую оппозиционность власти — в творчестве. Словом — за непохожесть!
Последний раз его арестовали вьюжным вечером 6 февраля 1937 г. Не в этом доме, нет, — на Арбате, он шел в парикмахерскую. Остановили двое, усадили в машину и увезли в Лефортово так и не успевшего подстричься. Там его кудлатая шевелюра, курчавая, как нимб над высоким лбом, станет, по словам сокамерника, седой, там ему сломают позвоночник и выбьют глаз, а подпись его под протоколами скоро превратится просто в линию… Так пишет видевший ее Виталий Шеталинский, он знакомился с архивами НКВД. А ведь поэту в год расстрела исполнилось всего 27. Как Лермонтову…
Вообще литературная Москва с его появлением ходила буквально ходуном. То он в «Праге», в ресторане, увидев за соседним столиком своего однофамильца, поэта Сергея Васильева, которого недолюбивал и даже предлагал ему взять псевдоним (чтобы «не позорил фамилию»), опрокидывает ему на голову заказанную яичницу «на девять желтков». Драка начинается такая, что не посуда со столов летит, столы летят по залу. В милиции, когда их посадят в одну камеру с поэтом Смеляковым (тот сидел уже за свои «художества»), Васильевы не только помирятся, но всю ночь втроем будут читать стихи. То он вступается за женщину и в кровь избивает «комсомольского поэта» Джека Алтаузена, да еще «сопровождая дебош гнусными антисемитскими и антисоветскими выкриками и угрозами расправы по адресу других советских поэтов» (в результате в «Правде» появляется письмо, где говорится, что «в течение трех последних лет в литературной жизни Москвы почти все случаи проявления аморальных, богемских или политически-реакционных выступлений и поступков были связаны с именем Павла Васильева… этот человек совершенно безнаказанно делает все для того, чтобы своим поведением бросить вызов писательской общественности», письмо, подписанное поэтами Прокофьевым, Асеевым, Безыменским, Сурковым, Голодным, Кирсановым, Саяновым, Уткиным и Луговским и др.). То, напротив, оскорбляет на вечеринке известную женщину в бальном платье, написав у нее на спине запредельное ругательство. Или, как вспоминал Сергей Малашкин, писатель, купит в магазине коровье вымя, засунет его в штаны, а увидев красивых девчушек, вытащит из ширинки сосок, картинно отрежет его ножом и кинет им под ноги. А однажды вообще в особняке самого Горького, да на его глазах, подошел к жене его сына, писаной красавице, к которой и «буревестник» был неравнодушен, и со словами «Почему платье застегнуто? Где декольте?» разорвал его до пояса. Но как такое можно было терпеть? И Горький пишет в «Правде», в статье «Литературные забавы», что «Васильев хулиганит больше, чем… Есенин, что мы не можем этого терпеть и должны помнить, что от хулиганства до фашизма один шаг», расстояние «короче воробьиного носа». А если учесть, что за спиной поэта уже был первый арест за «антисоветчину», то тучи над ними спустились черные. Ведь он, мальчик когда-то писавший стихи о Ленине и Октябре еще в 1932-м, зайдя как-то в редакцию журнала «Красная новь», в ответ на подначку его приятеля, сотрудника издания и прозаика Николая Анова, зарифмовать «Шесть условий товарища Сталина», ухмыльнулся и выдал: «Ныне, о муза, воспой Джугашвили, сукина сына. // Упорство осла и хитрость лисы совместил он умело. // Нарезавши тысячи тысяч петель, насильем к власти пробрался. // Ну, что ж ты наделал, куда ты залез, расскажи мне, семинарист неразумный! // В уборной вывешивать бы эти скрижали… // Клянемся, о вождь наш, мы путь твой усыплем цветами / И в жопу лавровый венок воткнем»… Ведь сочинил это раньше известного стихотворного обвинения Сталина Мандельштамом.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
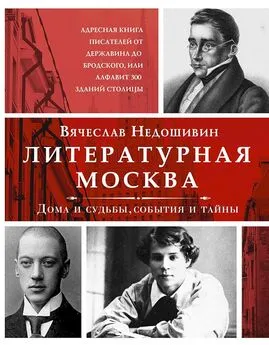
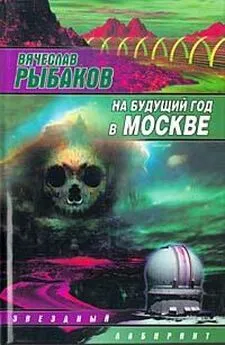



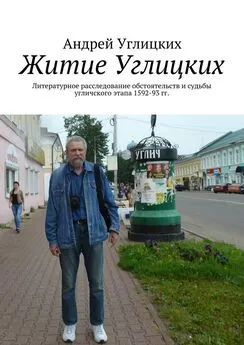
![Вячеслав Недошивин - Джордж Оруэлл. Неприступная душа [litres]](/books/1089688/vyacheslav-nedoshivin-dzhordzh-oruell-nepristupnaya-dush.webp)


