Вячеслав Недошивин - Литературная Москва. Дома и судьбы, события и тайны
- Название:Литературная Москва. Дома и судьбы, события и тайны
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:АСТ
- Год:2021
- Город:Москва
- ISBN:978-5-17-119691-2
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Вячеслав Недошивин - Литературная Москва. Дома и судьбы, события и тайны краткое содержание
В книге 320 московских адресов поэтов, писателей, критиков и просто «чернорабочих русской словесности» и ровно столько же рассказов автора о тех, кто жил по этим адресам. Каменная летопись книг, «география» поэзии и прозы и в то же время — захватывающие рассказы о том, как создавались в этих домах великие произведения, как авторам их спорилось, влюблялось и разводилось, стрелялось на дуэлях и писалось в предсмертных записках, истории о том, как они праздновали в этих сохранившихся домах творческие победы и встречали порой гонения, аресты, ссылки и расстрелы. Памятные события, литературные посиделки и журфиксы, сохранившиеся артефакты и упоминания прообразов и прототипов героев книг, тайны, ставшие явью и явь, до сих пор хранящая флёр тайны — всё это «от кирпичика до буквы» описано автором на документальной основе: на сохранившихся письмах, дневниках, мемуарах и последних изысканиях учёных.
Книга, этот необычный путеводитель по Москве, рассчитана как на поклонников и знатоков литературы, так и на специалистов — литературоведов, историков и москвоведов.
В формате PDF A4 сохранен издательский макет.
Литературная Москва. Дома и судьбы, события и тайны - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Но мемориальная доска висит здесь не им, а удивительному поэту и прозаику, бескомпромиссно сумевшему выразить несчастную долю советской России, человеку редкого мужества и чести — поэту, прозаику и очеркисту Варламу Тихоновичу Шаламову. Доску скульптора Г. Франгуляна здесь повесили сравнительно недавно, в 2013 г.
Шаламов жил здесь в семье отца своей первой жены, «старого большевика», когда-то редактора газеты «Тверская жизнь», а в 1930-х крупного сотрудника Наркомпроса РСФСР Игнатия Корнильевича Гудзя. Жил после первого своего заключения с 1932 по 1937 г., до нового ареста и тюрьмы, а затем и с 1953 по 1956 г. И именно в этой пятикомнатной квартире в 1935 г. его жена, Галина Игнатьевна Гудзь, родила ему дочь Елену и здесь же в 1956-м скончалась.
Они познакомились в первом еще лагере Шаламова, куда Галина приехала к своему мужу, а будущий писатель-заключенный не только ухитрился «отбить» ее у мужа, но и заручился ее обещанием ждать его. Галина ждала его из всех лагерей 15 лет, писала ему «по 100 писем в год» и встретила на вокзале, когда в 1953-м писатель вернулся сюда.
Но, главное, за год до возвращения мужа она, по его просьбе, отвезла в Переделкино, к Пастернаку, ту синюю тетрадь со стихами мужа. Позже, перечитав их, Пастернак уже Шаламову скажет: это «настоящие стихи сильного, самобытного поэта… Я никогда не верну вам синей тетрадки… Пусть лежит у меня рядом со старым томиком алконостовского Блока».
В 22 года, в 1929-м, Шаламов был арестован впервые. За «леваческие», троцкистские взгляды в студенческом кружке, за печатание «Завещания Ленина» в подпольной типографии ( Сретенка, 26). В 1937-м — за «антисоветскую пропаганду» (пять лет Колымы), где был осужден еще раз и в конечном итоге провел в лагерях долгие 16 лет. А по возращении именно здесь начал работу над «Колымскими рассказами» (шесть сборников), которые опубликуют в конце 1980-х, после смерти, представьте, автора в 1982-м.
Ужасную, наверное, выскажу мысль, но тюрьмы, лагеря, страшно сказать — многолетнее репрессивное издевательство над своим же народом не только выковывали необычно сильные характеры, но и становились для тех, кто побывал там, за «чертой бытия», метром-эталоном в оценке смысла и цели жизни, вообще — человеческого бытия. Что чего стоит на земле, каков вес подлинных чувств, искреннего дела, почти первобытного смысла выпущенного на волю твоего слова? Это в полной мере познал Шаламов, и именно этим объясняется «эволюция», если можно так сказать, его дружбы с Пастернаком. От почти богослужения ему, «переделкинскому небожителю», до непонимания и отторжения, да что там — до обвинения в трусости. Он ведь не только ощущал некое «соперничество» с «небожителем» в творчестве, но и реально соперничал с ним в любви к Ольге Ивинской, последней музе Пастернака. Причем влюбился лет за пятнадцать до знакомства с ней Пастернака.
Впервые Пастернака он увидел в 1932-м, в клубе МГУ, где тот читал свое «Второе рождение». Ревностно записал тогда: «И как бы ни была грандиозна сила другого поэта, она не заставит меня замолчать…» И тогда же влюбился в юную красавицу Ольгу — она работала литературным стажером в журнале «За овладение техникой», куда он носил свои заметки. Гуляли, читали стихи. Он не только «надеялся на взаимность», он думал о ней на Колыме и через 20 лет, это мало кто знает, «со своим вещевым мешком» явится первым делом к ней домой. Тогда и узнает, что она любит его «кумира» и, как и он, только что вернулась из лагеря, где сидела как раз за любовь к Пастернаку.
К самому Пастернаку Шаламов явится 13 ноября 1953 г. Богатый двухэтажный дом и двухэтажная квартира в Лаврушинском, шикарная машина с личным шофером, бесконечные застолья, когда обеды переходили в ужины, — не трудно представить впечатления «лагерника» от всего этого. Бескомпромиссный Шаламов «судил» уже писательскую братию «по гамбургскому счету». Не литература, считал, Сельвинский, Алексей Толстой, отрицательно оценивал и Горького, иронизировал по поводу Солженицына. И если в первую встречу «небожитель» разругал стихи Шаламова, то в следующие визиты не только оценил их, но и застеснялся, застыдился вдруг своих ранних вещей. Стихи 30-х гг. Пастернак назвал Шаламову «несостоятельными», а про поэмы «1905 год» и «Лейтенант Шмидт» сказал гостю, что «хотел бы забыть» о них. Если хотите, самопредательство «небожителя» перед реальной «правдой жизни».
Через три года прямой «лагерник» даже спросит Пастернака: почему он, любя Ольгу, не женится на ней? Сама Ольга вспомнит: «Шаламов рассказывал, что в апреле 1956-го Пастернак со слезами на глазах говорил ему в Переделкине: „Ольга — мое солнце, только она дает мне силы жить и писать. Но я не могу на ней жениться, я не должен отягощать ее жизнь своей болезнью и близкой смертью“». И разве эта «отговорка» не была также родом предательства? А про последнюю встречу в Переделкине Ольга сказала Шаламову: «Больше тебе Пастернака не видать!..»
Его позвали тогда на встречу с друзьями Пастернака. В этой «сытой и благополучной компании» Шаламов прочел: «Я много лет дробил каменья // Не гневным ямбом, а кайлом. // Я жил позором преступленья // И вечной правды торжеством. // Пусть не душой в заветной лире — // Я телом тленья убегу // В моей нетопленой квартире, // На обжигающем снегу. // Где над моим бессмертным телом, // Что на руках несла зима, // Металась вьюга в платье белом, // Уже сошедшая с ума… // Моя давнишняя подруга // Меня не чтит за мертвеца. // Она поет и пляшет — вьюга, // Поет и пляшет без конца».
Шаламов потом скажет про этот вечер, что «ощущение какой-то фальши» не покидало его. Запомнил и «опасливое поглядывание» хозяина дома на гостей, и равнодушие всех, и эгоизм каждого — и Рубена Симонова, и Луговского, и Нейгауза-старшего. Вот тогда родится его мысль, помните — о трусости писательской. И право же, не знаю: про «небожителя» или все-таки про себя напишет Шаламов поэту в последнем письме? Но — строки честные и приговор окончательный: «Несмотря на низость и трусость писательского мира, на забвение всего, что составляет гордое и великое имя русского писателя, на измельчание, на духовную нищету всех этих людей, которые по удивительному и страшному капризу судеб продолжают называться русскими писателями… жизнь в глубинах своих, в своих подземных течениях осталась и всегда будет прежней — с жаждой настоящей правды, тоскующей о правде; жизнь, которая, несмотря ни на что, — имеет же право на настоящее и настоящих писателей…»
«Доктора Живаго» Шаламов не примет, отзываться будет уничижительно. Но на похороны поэта придет. Говорят, даже стихи его прочтет у свежего холма на кладбище… И холодно усмехнется потом признанию Пастернака ему: «У меня почти на границе слез печаль по поводу того, что я не могу, как все, что мне нельзя, что я не вправе…» Потому что знал: за «могу» и «можно» в литературе надо платить не просто страданием — жизнью!
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:

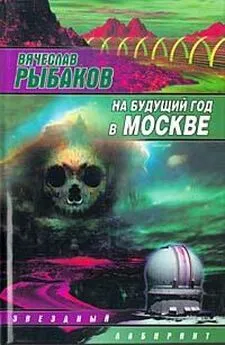




![Вячеслав Недошивин - Джордж Оруэлл. Неприступная душа [litres]](/books/1089688/vyacheslav-nedoshivin-dzhordzh-oruell-nepristupnaya-dush.webp)


