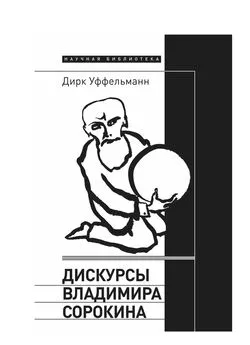Дирк Уффельманн - Дискурсы Владимира Сорокина
- Название:Дискурсы Владимира Сорокина
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Новое литературное обозрение
- Год:2022
- ISBN:978-5-4448-1669-1
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Дирк Уффельманн - Дискурсы Владимира Сорокина краткое содержание
Дирк Уффельманн — профессор Института славистики Гисенского университета им. Юстуса Либиха.
Дискурсы Владимира Сорокина - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
На международном профсоюзном съезде «Кухни» выясняется, что немецкие «повара» готовят только на французской или ирландской литературе1312. Это открытие опровергает националистические предрассудки Гезы, убежденного, что русские должны готовить на русской классике — даже если в лингвистическом, культурном или этническом смысле они давно уже никакие не русские. В «Манараге» Сорокин парадоксальным образом использует профессионального кочевника и по сути космополита, чтобы показать совершенно устаревший, антитранскультурный взгляд на мир. Поэтому «Манарага» — образец парадоксальной мировой литературы. Кроме того, библиофил Геза сам сжигает и уничтожает книги — аспект, который не следует упускать из виду ради литературоцентричных трактовокІЗІЗ. Это дает Сорокину основание развенчать структурный консерватизм и медийный анахронизм как «киберфашизм» 1314.
В «Манараге» Сорокин не выступает в защиту наивной ностальгии по старым медиа, как он сделал в предисловии к литературному выпуску журнала Esquire в августе 2016 года1315. Галина Юзефович в рецензии на роман 2017 годаІЗІб пошла по ложному следу, сославшись на статью Сорокина для Esquire в доказательство того, что устами Гезы говорит сам автор. Гезу едва ли можно назвать даже «печальным автопортретом самого Сорокина» 1317, и Сорокин в «Манараге» уж явно не «традиционалист» и не «консерватор», какого видит в нем Лев Данилкин, заявивший, что писатель «хуже большинства алармистов, которые в середине нулевых принялись наводнять литературу антиутопиями» 1318. Наоборот, фантазия Сорокина, в духе киберпанка рисующего мировую элиту, путешествующую ради развлечения, трансгуманистических киборгов и футурологические машины, дает возможность остраненно взглянуть на политический алармизм (как у Саррацина) и политически мотивированные литературные дистопии (как у Уэльбека).
Человека, публициста и гражданина мира Владимира Сорокина и метадискурсивного писателя с тем же именем по-прежнему разделяет непреодолимая пропасть. В постисламистской метадистопии Сорокина книги жгут не ретроградные исламисты, а консерватор-библиофил, старомодный националист, любитель русской культуры. В конечном счете Сорокин показывает, что реакционные, антиглобалистские, неонационалистические и исламофобские тирады рассказчика — парадоксальная и разрушительная ксенофобия. Неудивительно, что в одном из эпизодов «Теллурии» Сорокин назвал дискурс освобождения от исламизма «патриотической чушью»1319.
Глава 13. Изменчивость как форма постоянства: перспективы
Исследователи, занимающиеся творчеством Сорокина — если не уходили в полемику, руководствуясь личными симпатиями или антипатиями, — на протяжении более чем тридцати лет настойчиво подчеркивали значимость двух утверждений писателя: что художественные тексты он списывает «не с натуры»1320 и что его произведения — «просто буквы на бумаге»1321. Литературоведы повторяли эти формулы, чтобы опровергнуть упрощенные буквалистские трактовки, такие как «сатира на путинский режим» и «пародия на новый империализм». Специалисты, давно изучающие произведения Сорокина, полагают, что «установка на дискурс» 1322 проходит через все его творчество: «Начав деконструировать сюжеты и персонажей соцреализма, Сорокин вскоре осознал, что тот же метод деконструкции применим к любому авторитетному (а значит, сакрализованному) дискурсу» 1323. Конечно, возросший интерес читателей к книгам Сорокина во многом объясняется предположением о наличии референциальных отсылок, но объектом референции в его художественных текстах является не «реальность» как таковая, какой бы она ни была. Сорокина интересуют скорее разнообразные дискурсивные модели изображения реальности 1324.
Вот почему следует весьма осторожно отвечать на вопрос, имеем ли мы дело с «новым Сорокиным» после выхода «Голубого сала» в 1999 году, «Льда» в 2002-м или «Дня опричника» в 2006-м. Безусловно, ранний соц-артовский концептуализм, завороженный советскими дискурсами и шаблонами соцреализма, в творчестве Сорокина уступил место другим источникам вдохновения: от русской классики, бульварной литературы, фэнтези и эзотерики до разных форм дистопического мышления, евразийства и антиглобализма. Дискурсивный материал менялся, а метадискурсивная поэтика Сорокина1325 оставалась неизменной 1326. В 2004 году писатель заявил: «Я стилистический Протей, в этом и есть мой стиль» 1327. И хотя в 2000-е и 2010-е годы Сорокин неоднократно утверждал, что пересмотрел свою поэтику, в 2017 году он снова признал: «...Я храню верность принципам, сложившимся у меня в московском андеграунде 70-80-х» 1328.
Единственное исключение — 2002-2005 годы, когда Сорокин поддался искушению выразить частичную солидарность с метафизическими постулатами тоталитарной секты из своей «Ледяной трилогии». За вычетом этого случая реальный автор всегда соблюдал осторожную дистанцию по отношению к замкнутому художественному миру своих произведений, а автор-повествователь придерживался «приема позиционирования себя как „я не...“»1329. Исследователи расходятся во мнениях относительно того, можно ли с учетом тематических изменений говорить о постконцептуализме Сорокина после 1999 или 2002 года (когда он точно перестал работать в русле соц-арта), и все же метадискурсивная поэтика дает веское основание утверждать, что в этой непоследовательности есть последовательность. По меткому замечанию, сделанному Ильей Кукулиным в 2002 году, с концептуализмом Сорокин «прощается, но не уходит» 1330.
Обратившись к популярным дискурсам и жанрам, таким как бульварная литература или фэнтези, до тех пор малодоступный андеграундный писатель обеспечил себе более широкую аудиторию, иначе воспринимающую его тексты. Ростом своей популярности в 2000-е годы Сорокин, по иронии судьбы, отчасти обязан ошибочному референциальному истолкованию своих произведений. Когда Сорокин стал автором бестселлеров и классиком современной русской литературы, имитация популярных жанров в его книгах поставила в тупик неподготовленных критиков и специалистов по сравнительному литературоведению. Ошибочные трактовки текстов Сорокина — начиная с «Голубого сала» — строились на совершенно буквальном их понимании, упрощающем дихотомию Поля де Мана, который говорил о невозможном выборе между референциальной и самореференциальной интерпретацией литературы 1331.
Когда Сорокин перестал быть всего лишь своим в узком кругу единомышленников — андеграундных художников — и специалистов по неоавангарду, его вторая аудитория, все более обширная, в том числе и за рубежом, в значительной мере способствовала его признанию. Наряду с Ильей Кабаковым, художником с мировым именем, теоретиком искусства Борисом Гройсом, уехавшим в Нью-Йорк, и Дмитрием Приговым, обладавшим разносторонними талантами и необыкновенным запасом энергии, Владимир Сорокин, самый успешный прозаик из кружка московских концептуалистов, превратился в классика поздне- и постсоветского искусства.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: