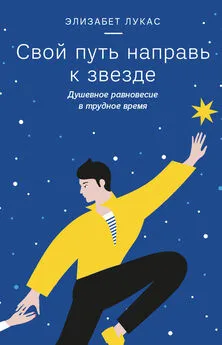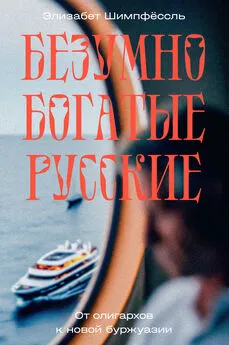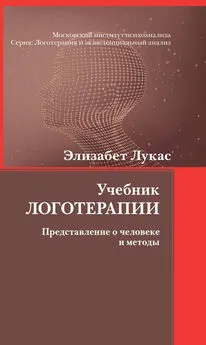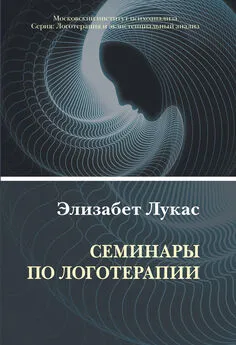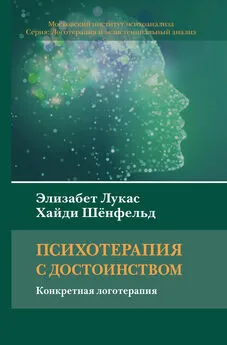Элизабет Лукас - Франкл и Бог. Откровения психотерапевта о религии и Боге
- Название:Франкл и Бог. Откровения психотерапевта о религии и Боге
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:ООО «ЛитРес», www.litres.ru
- Год:2019
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Элизабет Лукас - Франкл и Бог. Откровения психотерапевта о религии и Боге краткое содержание
Франкл и Бог. Откровения психотерапевта о религии и Боге - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Навязчивые богохульные мысли
Духовным пастырям, не прошедшим психотерапевтическую школу, важно знать, что наряду с чувством вины за реальные проступки у человека могут быть и пустые фантазии на тему своей «испорченности». Их следует относить к симптомам невротического расстройства и ни в коем случае не принимать всерьез, не давать себя вовлечь в рассуждения о покаянии, искуплении, исправлении. Пациенты часто страдают от ненужного и надуманного чувства вины – не только под влиянием меланхолической депрессии, но и при навязчивом стремлении к безупречным логическим построениям.
Особую форму представляют собой навязчивые богохульные представления, овладевающие верующими людьми и порождающие в них мучительную боязнь совершить какое-нибудь бессмысленное святотатство. При лечении таких больных хороший эффект дают меры, направленные на укрепление их доверия Богу. Пациенту надо объяснить, от какой болезни он страдает, а затем попросить его запомнить, например, такую словесную формулу:
Несомненно, Бог не хуже меня знает, что навязчивые богохульные мысли появляются у меня сами по себе, помимо моей воли и далеки от моих подлинных религиозных чувств.
Постепенно человек поймет, что Бог «ставит диагнозы» не хуже, чем его лечащий врач, и Бог знает, что причина невротических навязчивых представлений коренится там, где и есть ее истинное место – в измученной безжалостными первичными страхами психике, а не в сердце верующего человека.
Личность не может уничтожить первичные страхи, навязчивые фантазии (каково бы ни было их происхождение), здесь она не свободна. Но она свободна внутренне дистанцироваться от них и подняться над ними, опираясь на правильные установки. Искусство психотерапевта и состоит в том, чтобы подключить ее к этой «последней свободе». Ради «последней свободы»
Франкл верил в сохранение «последней свободы» человека при любых обстоятельствах, не делая исключения даже для тяжелых стадий психических заболеваний. Он говорил о том, что так называемое душевное расстройство представляет собой не болезнь духа, а телесно-душевный недуг, который – как можно надеяться – когда-нибудь научатся лечить с помощью препаратов. Даже у тяжелобольного психически человека всегда и невзирая ни на что остается человеческое достоинство и понятие о ценности жизни. В годы нацизма Франкл уберег от эвтаназии нескольких своих пациентов, страдающих психиатрическими заболеваниями, – еще до того, как сам был арестован.
В одной из позднейших работ он рассказал о 60-летнем больном, проходившем лечение в его клиническом отделении. Это был аутист, страдавший галлюцинациями. Целыми днями он занимался только одним делом – рвал бумагу – и время от времени впадал в неописуемую ярость. Однако каждый раз быстро овладевал собой и никого не трогал. Понаблюдав за ним, Франкл спросил, чего ради он так старается сдерживать себя? И больной ответил: «Ради Господа». И тут, как вспоминал потом Франкл, ему на ум пришли слова Кьеркегора:
Даже когда само безумие держит у меня перед глазами шутовской колпак – я еще могу спасти свою душу, если во мне побеждает любовь к Богу.
Я уверена, что в такой ситуации очень многие психотерапевты спросили бы больного, что именно приводит его в ярость. Однако для Франкла приступы неоправданной агрессии были лишь симптомами психической патологии – и не это было главным в человеке. А вот способность обуздать себя вопреки недугу – это проявление «последней свободы», благодаря которой сквозь все болезненные симптомы просвечивает здоровая духовная личность. Совесть как божественное «Ты»
Слово person (личность) имеет латинские корни, и одно из близких к нему значений – наполнять звучанием, проникать сквозь. Каждую личность пронизывает и наполняет зов чего-то иррационального, трансцендентного, такого, что нельзя понять просто логикой или житейским опытом. Удивительно, что даже люди, не получившие ни теологического, ни философского, ни тем более тического образования, нередко прибегают к метафоре, рассказывая о том, как в них «что-то» зазвенело или зазвучало, – о внутреннем голосе, который говорит в них или обращается к ним. О том, что иной раз этот голос им о чем-то напоминает или от чего-то предостерегает. Что он внушает им поразительные идеи, а в минуту нерешительности подсказывает верные ориентиры. Некоторые люди называют этот голос своим внутренним чутьем и доверяют ему больше, чем безупречным логическим умозаключениям. А ведь уже не одно столетие для обозначения этого внутреннего голоса существует другое слово – совесть . Слово, которое сегодня, к сожалению, употребляется все реже, поскольку ему несправедливо приписывается излишняя строгость и тенденция к принуждению. Причину того, что слово это утратило сегодня всякую популярность, стоит искать в прошлом. Первый значительный вклад в понижение его рейтинга внес, пожалуй, Зигмунд Фрейд. В его представлении о человеке нашлось место лишь психике и соматике, совесть превратилась в «сверх-Я», а ее голос – в строгий голос «стоящего-над-душой-отца» или читающего наставления авторитарного учителя, с ужасающей отчетливостью запечатлевшийся в душе человека. По Фрейду, феномен «сверх-Я» – это непреклонный носитель моральных норм и порядка, угрожающий весьма неприятными последствиями в случае непослушания. В таких словосочетаниях, как «разлад с совестью», «больная совесть», «муки совести», отражается внушающая страх оболочка, в которую была упрятана совесть.
Для Франкла все это не имело никакого значения. Он считал, что за понятием совести скрывается не доминирующее «Я» отца, а «Ты» милосердного Бога.
Отец не является для нас прообразом всего божественного, скорее справедливо прямо противоположное: Бог – прообраз всего отцовства.
В логотерапевтической интерпретации совесть – это, можно сказать, лучший друг человека. В какие бы обстоятельства нас ни заносило, она всегда указывает верный путь. Всегда озабочена благополучием окружающего мира. Ни к чему не принуждает, а лишь призывает смело идти вперед, обходить пропасти и становиться лучше. По сравнению с усвоенным нравственным кодексом совесть является более продвинутой инстанцией, и в известных случаях она вполне способна проигнорировать сомнительные побуждения, исходящие от «сверх-Я».
Свою позицию по этому поводу Франкл убедительно изложил в «притче о пупке». Если рассматривать человеческий пупок сам по себе, он может показаться ненужным и бесполезным. Его назначение и функция становятся понятны лишь из предыстории – в данном случае из пренатальной истории.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:

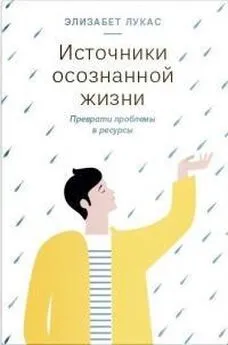
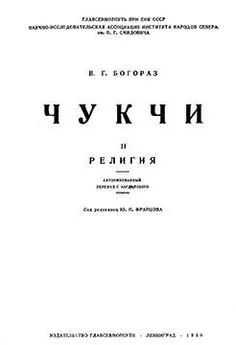
![Элизабет Лофтус - Память [Пронзительные откровения о том, как мы запоминаем и почему забываем]](/books/1098640/elizabet-loftus-pamyat-pronzitelnye-otkroveniya-o.webp)