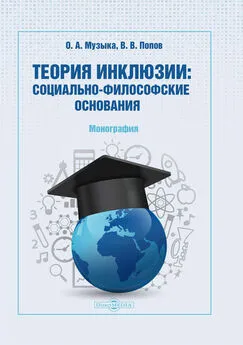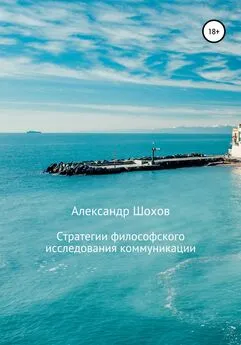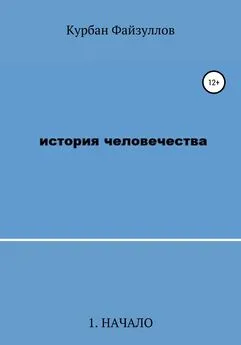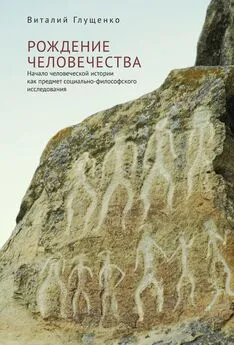Виталий Глущенко - Рождение человечества [Начало человеческой истории как предмет социально-философского исследования] [litres]
- Название:Рождение человечества [Начало человеческой истории как предмет социально-философского исследования] [litres]
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Литагент Алетейя
- Год:неизвестен
- ISBN:978-5-00165-012-6
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Виталий Глущенко - Рождение человечества [Начало человеческой истории как предмет социально-философского исследования] [litres] краткое содержание
Рождение человечества [Начало человеческой истории как предмет социально-философского исследования] [litres] - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Итак, мы считаем, что Куценков прав, когда утверждает, что троглодитиды и ранние Homo sapiens имели потребность в аутостимуляции. Добавим сюда, что потребность эта прямо связана с имитативно-интердиктивным комплексом и ее реализация канализировала невротическую реакцию на интердикцию в безопасное для популяции русло. Никакой другой функции ни чашевидные углубления, ни появившиеся в Мадлене наскальные изображения, не несут: там и там мы имеем дело с «запретом» на всякую иную деятельность, кроме имитации образца, т. е. интердикцией. Однако ко времени появления наскальных изображений интердикция прямоходящих приматов претерпела существенное изменение, и в определенном смысле тут мы имеем дело с другой интердикцией: если долбление «чаш» и оббивка камней были проявлениями интердикции как она есть – стереотипиями, повторяющимися имитациями неадекватного рефлекса, то палеопсихологический анализ наскальных изображений Мадлена указывает нам на контринтердикцию – «интердикцию интердикции», поскольку эти изображения, также как и первое слово ребенка, уже не просто канализируют «запрещенную» деятельность, но и одновременно создают «виртуальную» замену отсутствующему в «реале» объекту. И также как и первое слово ребенка мадленские изображения не имели для своих создателей никакого собственного значения.
Выше мы говорили, что интердикция и имитация у троглодитид были связаны в единый имитативно-интердиктивный комплекс. Интердикция не смогла бы занять у них своего коронного места, если бы она не дополнялась высокоразвитым имитативным поведением. В моменты чрезмерного скопления их высокая имитативность канализировалась в моторную персеверацию, следами которой являются как чашевидные углубления, так и избыточная продукция каменной индустрии. Возможно, кстати, что были и другие функционально аналогичные модели поведения, не оставившие сохранившихся следов. Однако, в любом случае, все они оказались недостаточны для дивергировавших от троглодитид «большелобых».
Особая связь лобных долей головного мозга с торможением известна давно, другое дело, что сам процесс торможения оставался недооценен 157 157 О характерной для физиологии высшей нервной деятельности недооценке торможения см.: Поршнев Б.Ф. О начале человеческой истории (проблемы палеопсихологии), с. 177–186.
. Обратимся к классической работе Александра Романовича Лурии «Высшие корковые функции человека и их нарушения при локальных поражениях мозга». На приведенном в ней материале эту связь можно установить уже у животных. Например, домашние животные после экстирпации (удаления хирургическим путем) лобных долей перестают «узнавать хозяина». Но что здесь значит «узнавать хозяина»? У животного формируется комплекс рефлекторных реакций на человека, и лишь в отношении хозяина этот комплекс тормозится – на хозяина животное реагирует не так, как на остальных людей. Если животное перестало выделять хозяина среди других людей, значит торможение не работает. Также у лишенного лобных долей животного теряется избирательный характер пищевого поведения (животное хватает и жует любые предметы). Чем обеспечивается избирательный характер поведения? Тем, что оттормаживаются действия, в него не укладывающиеся. Исчезает торможение – теряется избирательный характер. Далее, такое животное перестает активно искать пищу, отвлекаясь на любые посторонние раздражители, которые, очевидно, перестали оттормаживаться. Наконец, такое животное обнаруживает двигательные автоматизмы в виде кружения на месте или автоматических «манежных движений». Чтобы одно движение сменилось другим, сперва должно быть заторможено прежнее движение, но этого, по всей видимости, не происходит.
«Согласно данным П. К. Анохина, собака, лишенная лобных долей мозга, может непосредственно реагировать на один условный сигнал, но не может выработать дифференцировку двух сигналов, требующих двух разных двигательных реакций (получивших в психологии название реакции выбора). Собаки, лишенные лобных долей мозга, поставленные в условия, требующие реакции выбора между двумя кормушками, не ограничиваются тем, что бегут к одной из кормушек, в которую была помещена пища; вместо этого они начинают бессмысленно бегать от одной кормушки к другой, производя стереотипные «маятникообразные движения». Подкрепление, полученное в одном месте, не приводит к избирательной реакции; собаки, лишенные лобных долей мозга, перестают правильно оценивать влияние подкрепления; их поведение перестает управляться сигналами об успехе или неуспехе соответствующей реакции, их движения теряют свой приспособительный характер» 158 158 Лурия А.Р. Высшие корковые функции человека и их нарушения при локальных поражениях мозга. М.: Издательство МГУ, 1962. С. 191.
.
Реакция выбора по своей физиологической сути тоже сводится к торможению «неподходящих» реакций. Связано с торможением и подкрепление: подкрепленная реакция усиливается за счет оттормаживания всех других возможных реакций, но если торможение исчезает, то и подкрепление не работает, что мы и наблюдаем.
Нужно заметить, что в приведенных выше примерах изменения поведения животных при экстирпации лобных долей физиологи, наблюдавшие эти примеры непосредственно и описавшие их в научной литературе, как и ссылавшийся на них Лурия, про торможение не говорили. Это не означает, что физиологическая связь лобных долей с торможением вообще не отмечалась: следом Лурия ссылается на ряд авторов, «отметивших, что у животных с резекцией лобных долей растормаживаются отсроченные реакции и оживляются элементарные (подкорковые) автоматизмы» 159 159 Там же, с. 192.
. Однако, это указывает на сильно суженное понимание торможения: понимания того, что каждое действие, каждая реакция организма сопряжены с торможением в этот момент совокупности всех других действий и реакций , мы тут не видим. Такое широкое понимание торможения развивала физиологическая школа Введенского – Ухтомского, находящаяся несколько в тени школы Павлова, и оно достигло кульминации в теории тормозной доминанты Поршнева.
Самый, пожалуй, важный для нас момент в описании подвергнутых экстирпации лобных долей животных – тот, что, такие животные неспособны к формированию у них экспериментальных неврозов: возникающему у них в центральной нервной системе в результате столкновения в ней разнонаправленных рефлексов «трудному состоянию» невозможно придать инертность, говоря другими словами, оно не фиксируется. Такие животные не прекращают реагировать на продолжающие поступать новые сигналы, потому что теперь их центральная нервная система неспособна к торможению, либо, напротив, будучи неспособны затормозить уже реализовавший себя рефлекс, они срываются в персеверацию – повторяющуюся имитацию одного и того же движения, уходя от невроза таким образом. На первый взгляд неудивительно, что именно Homo sapiens с его очевидной на фоне других видов гипертрофией лобных долей оказался, напротив, склонным к неврозу. В действительности, однако, все немного сложнее.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
![Обложка книги Виталий Глущенко - Рождение человечества [Начало человеческой истории как предмет социально-философского исследования] [litres]](/books/1059270/vitalij-gluchenko-rozhdenie-chelovechestva-nachalo-chelovecheskoj-istorii-kak-predmet-socialno-filosofskogo-issledovaniya-litres.webp)



![Людвиг Витгенштейн - Философские исследования [litres]](/books/1057650/lyudvig-vitgenshtejn-filosofskie-issledovaniya-litre.webp)