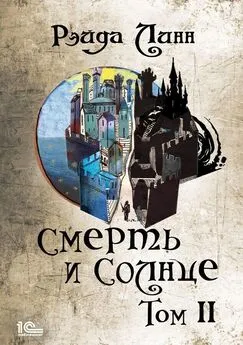Петер Слотердайк - Солнце и смерть. Диалогические исследования
- Название:Солнце и смерть. Диалогические исследования
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Иван Лимбах Литагент
- Год:2015
- Город:Санкт-Петербург
- ISBN:978-5-89059-232-3
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Петер Слотердайк - Солнце и смерть. Диалогические исследования краткое содержание
Солнце и смерть. Диалогические исследования - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Неужели мы и в самом деле во всех ситуациях нуждаемся в чем-то твердом, стабильном, строго определенном – как в ориентирах для нашего чувства реальности и для удовлетворения нашей потребности в объективном? Неужели мы действительно нуждаемся в твердой почве под ногами и в соответствующем материалистическом, опирающемся на твердый фундамент мышлении – или нам приходится довольствоваться им лишь потому, что когда-то давно мы утратили связь с текучим первоэлементом, с водой? Может быть, рождение кажется нам экзистенциальной катастрофой потому, что во время него исчезает окружающий нас первоэлемент, в котором мы могли бы продолжать невесомо парить? Неужели мы утратили невесомость и отяжелели, подпав под действие силы тяжести, потому, что, начиная с определенной стадии эволюции, перестали ощущать «объемлющую весь мир воду», о которой, как Вы упомянули, сообщали мифологии Египта и Месопотамии – и после этого для нас как бы высохло и внутреннее пространство мира ? Эти вопросы, которые звучат немного странно, я задал потому, что хотел подчеркнуть, насколько важно воспротивиться одномерному мышлению, сидячему или стоячему мышлению, заговору реальности.
П. С.:Как Вам известно, моя работа завершается выходом в амфибийную антропологию. Я заинтересован в проведении доказательства того, что люди – это существа, не привязанные только к одному первоэлементу мира. Тот, кто придерживается такого взгляда на них, уже неверно их описывает. А почти все доныне существовавшие антропологии страдали односторонностью – ориентированностью только на один первоэлемент. Они интерпретируют нас как создания, которые могут существовать только в связи с одним первоэлементом – только на суше, на земной тверди, только в так называемом Реальном. Я, напротив, на протяжении многих лет развиваю учение о перемене сред, то есть теорию перехода из одного первоэлемента в другой, из одного состояния в другое. Это ясно прослеживается уже в «Евродаосизме», написанном в 1989 году, – книге, в которой я начал свои размышления на тему философской антропологии, – а еще лучше это заметно в «Чуждости миру» (1994). Теория сфер продолжает развивать эти начинания, обращаясь к изначальным элементам. Она не имела бы смысла, если бы не была в то же время и теорией расширения сфер. Поэтому она должна включать в себя исследование того, как человек осуществляет смену одного первоэлемента на другой.
Я, следовательно, описываю подвижность человека в филогенезе и в онтогенезе через динамику смены первоэлементов. Я утверждаю, что люди – это животные, склонные к перемене мест, к смене сред, к переселению. Они – онтологические амфибии. Они никогда не были только оседлыми существами – и не только после того, как переселились из леса в степи; они всегда сохраняли связь с другими средами – с воздухом, поскольку так никогда и не забывали совсем жизни в кроне деревьев, и с водой, потому что их никогда не покидало умение нырять и плавать, – но тут мы должны выражаться осторожнее, поскольку те, кто не нырял и не плавал, во многих местах твердо держал в руках весла. В дополнение к этому, люди – как существа, дышащие с помощью легких, – не могут жить без воздуха, зависимы от него; они, как и все высшие животные, используют кислород, необходимый как наркотик для обмена веществ, и получают отсюда высокий экстатический потенциал – способность испытывать экстаз. Кроме того, они – как стало известно только несколько лет назад – являются от рождения эндоморфинистами. Тут уже чисто биологически в нас культивируется способность испытывать сильные и тонкие чувства – способность, которую не принимает в расчет та антропология, которой учат в школах. Нам всегда присуще стремление вырваться за пределы, установленные для жизни. Это объясняет раз и навсегда, почему в классовых и в депрессивных обществах за людьми всегда должны были надзирать специально поставленные надзиратели, священники, философы и другие профессиональные возвращатели-в-рамки, прерыватели-полетов, чтобы контролировать их, понижая их настроение и возвращая на землю. Сегодня это достигается скорее посредством установления климата само-нормализации, приведения к норме собственными силами. Одним словом, исходя из оседлости, из привязанности к одной и той же почве, факта человеческого существования не понять. С тех пор как это стало ясно, мышление, привязанное к земле, не имеет больше никаких шансов.
Я признаю, что в своих антропологических размышлениях не углубляюсь в прошлое так сильно, как это делает Алистер Харди, к авторитету которого Вы апеллируете, но который мне незнаком. Теория водоплавающей обезьяны встречалась мне до сих пор лишь в той форме, в какой ее дает Э. Морган в своей до некоторой степени фантастической книге «The Descent of Women» [283] «Нисходящее развитие женщины» (1972) – книга британской исследовательницы Элейн Морган (1920–2013), в которой проблемы эволюции трактуются с феминистских позиций.
. Палеоантропологи в большинстве своем придерживаются того мнения, что для понимания истории возникновения человека нужно рассматривать последние два миллиона лет. Водоплавающая обезьяна, которая якобы жила десять миллионов лет назад, в связи с нашей генеалогией не рассматривается. Будучи исследователем истории идей, и без того уже нарушаешь цеховые правила, расширяя поле рассмотрения и выходя за тот порог, с которого начинается письменность, – до самой неолитической революции и далее, до палеолита. Таким образом, происходит проникновение в те времена, которые не описывает никакая история философии, потому что история философских идей – это синоним истории идей записанных. Уже традиции устно передаваемой мудрости культур, еще не знавших письменности, не вызывают у философов никакого энтузиазма, а уж до каменного века они и подавно не добираются. Они никак не могут себе представить палеолитического в-мире-бытия. Но я полагаю, что компетентная история идей, которая должна быть также историей поведения и историей форм человеческого мира, должна доходить до самых ранних стадий, на которых была запущена биограмма homo sapiens . Если углубляться настолько далеко, в культурном габитусе культур можно различать слои, причем от более поздних наслоений вполне можно проникнуть к более ранним, критически исследуя традицию. Только на рубеже, разделяющем палеолит и неолит, распространяются, словно эпидемия, и становятся наследственными территориализм, субстанциализм и изначальное недоверие к движению. Косвенно эта информация могла бы быть интересной для преодоления метафизического синдрома.
Гимнософистские упражнения
Г. – Ю. Х.:Я хотел бы поставить вопрос, который занимает меня давно, а именно: какие положения тела более всего подходят для мышления. Я еще раз вспоминаю о четырех основных состояниях, которые выделяет буддизм: стояние, ходьба, сидение, лежание. Наш культурный контекст предлагает клише: мыслитель, который пребывает под гнетом тяжких мыслей, подпирает рукой подбородок или охватывает лоб. Таков образ мыслящего человека, который у нас есть – согбенный человек, человек сидящий; пожалуй, он так и будет сидеть дальше, не переходя к каким-то иным состояниям. Мыслителя никогда не видят свободно парящим в воздухе. Идущими мыслители тоже бывают редко, хотя они и устраивают так называемые дискурсы [284] Игра слов в оригинале – «дискурс» означает буквально движение туда-сюда, без четко определенного направления (ср. с однокоренным словом «курсировать»).
. При этом Ницше предупреждал, что надо настороженно относиться ко всем тем мыслям, которые приходят в голову не во время прогулки на вольном просторе. Он полагал, что великие идеи приходят на голубиных лапках [285] Можно интерпретировать это как «приходят легкими стопами», вкрадчиво.
(Taubenfüβen) – что заставляет вспомнить о свободном парении. Из четырех «основных состояний» лежачее положение наверняка является наиболее расслабленным. Недавние эксперименты показали, что это также то положение, в котором лучше всего происходит учеба. Это было проверено на группах тестируемых учеников, которым задавали одни и те же задачи, причем одна группа сидела, другая лежала, третья – ходила. В лежачем положении, то есть в позе, которая ближе всего к положению тела в свободном парении, достигается наибольшая обучаемость. Впрочем, сохранилось удивительное фото Эгона Эрвина Киша [286] Эгон Эрвин Киш (1885–1948) – чешско-немецкий писатель и журналист, участник Гражданской войны в Испании.
, на котором он запечатлен путешествующим в лежачей позе.
Интервал:
Закладка:

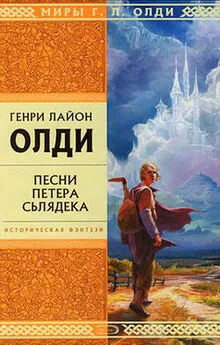
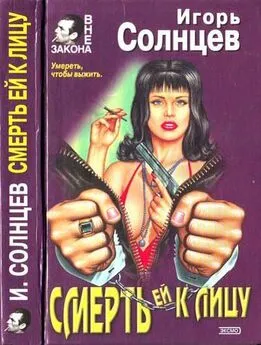

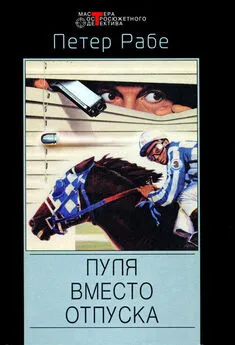
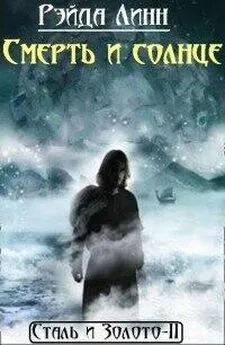
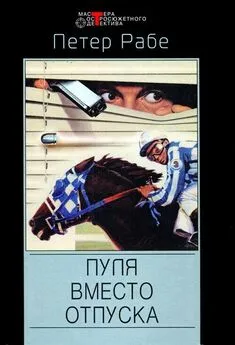

![Павел Щёголев - Дуэль и смерть Пушкина [Исследование и материалы]](/books/1078686/pavel-chegolev-duel-i-smert-pushkina-issledovanie.webp)