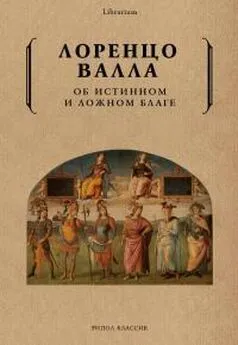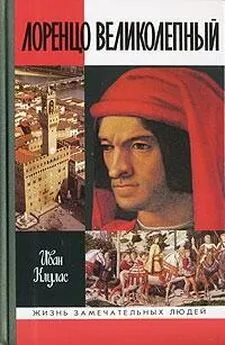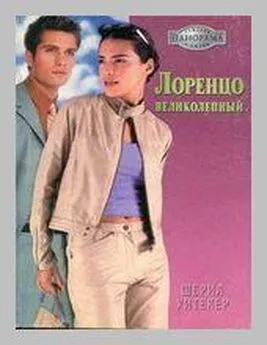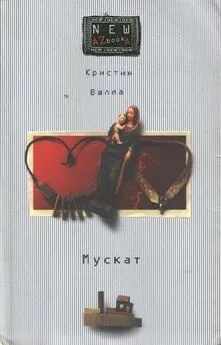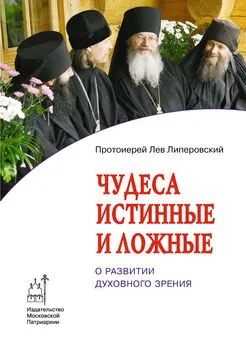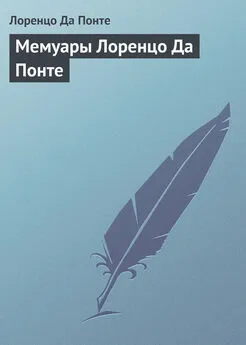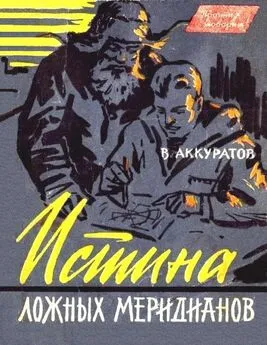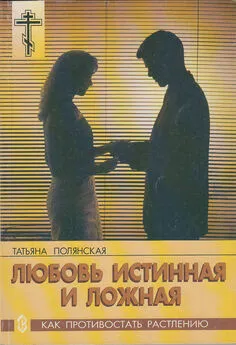Лоренцо Валла - Об истинном и ложном благе
- Название:Об истинном и ложном благе
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Рипол Классик
- Год:2018
- ISBN:978-5-386-10530-3
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Лоренцо Валла - Об истинном и ложном благе краткое содержание
Об истинном и ложном благе - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
II. (1) После того как Катон сказал это, все [стали] друг у друга спрашивать и побуждать взаимно к ответу, но большинство просят и требуют высказать свое мнение или подать голос Антонио да Ро. Ибо он муж, почитаемый и за высокую ученость, и за исключительную серьезность, а также за обет. Поскольку он, часто говоря перед народом о вещах возвышенных, всегда встречает одобрение людей, мы посчитали, что его и надлежит избрать для этого дела. Поэтому, когда он понял, что не может с легкостью отказаться, он собрался с духом и видом своим дал понять, что он готов говорить, и после этого начал говорить среди большого ожидания.
III. (1) «Очень хорошо понимаю, мудрейшие мужи, почему вы просите говорить именно меня, которого менее всех [остальных] следовало выбрать для этого дела, как вы могли понять из моего молчания, которое я сегодня хранил, слушая этих двоих. И даже если я достоин избрания (что совсем не так), вы сделали это, однако, не с тем намерением, что хотите услышать мое мнение. Вы ведь не столь безрассудны, чтобы потребовать от меня, будто бы более ученого, [чем вы], того, в чем вы [сами] можете меня научить. Но вы, очевидно, рассчитываете уклониться от ненавистного вынесения приговора, зная известное древнее наставление: скорее рассуди двух недругов, чем двух друзей, поскольку из недругов одного расположишь в свою пользу, из друзей – одного лишишься. (2) Если вы так озабочены сохранить дружбу с этими двумя, почему нет никакой заботы в отношении меня, на кого вы возлагаете столь ненавистное бремя – рассудить двух друзей? Тем более что вы не довольствуетесь поручением мне такого дела, но требуете также обоснования сделанного, то есть, если я не скажу прямо то, что буду думать, боясь оскорбить Катона или Веджо, вы обо мне будете плохо судить. Так что вы мне учиняете двойную несправедливость, одну – ту, что [по вашему желанию] я сужу о друзьях, другую – что вы сами обо мне желаете судить, обеих из них я весьма страшусь. Поэтому кто из вас по праву на меня разгневается, если я боюсь того, чего вы боитесь, и считаю вас зачинщиками своего страха? (3) Но для чего я пытаюсь отказаться? Ведь, когда поручают такие мужи, подобает уступать и повиноваться и не допускать из-за трусости мысли, что не следует поручать мне эту обязанность, которую вы мне поручили, в особенности потому, что вашей критики я должен прежде всего бояться. Итак, я скажу откровенно то, что думаю (вы оцените, правильно ли), и рассужу двух больших друзей, не боясь обидеть их моим суждением. Ведь ежели они люди справедливые и спорят ради любви к истине, а не с целью нанести оскорбление, не думаю, что они будут сердиться на меня, кто свободно говорит и высказывает то, что считает истинным. (4) И тем не менее обоих я хочу удовлетворить. Соглашаясь с тем и с другим, я, однако, намереваюсь и ту и другую речь опровергнуть, по крайней мере кратко. Таким образом, оба так или иначе, и одобренные и осужденные, они должны быть ко мне благосклонны, так как я говорю, что и ту и другую части – и добродетель, и наслаждение – следует и одобрить и осудить. Одобрить, по крайней мере, потому, что добродетель, а равно наслаждение – наилучшие вещи; осудить же потому, что принять их следует по-иному, нежели утверждалось в ваших доводах. Хотя я твердо надеюсь, что вы окажетесь на моей стороне, однако более трудное дело будет у меня с тобой, Катон, предложившим этот диспут. Веджо я надеюсь удовлетворить настолько краткой речью, насколько длинной он воспользовался.
IV. (1) Итак, то, что относится к первой части, где ты скорбишь об участи человеческого рода, которому не дано, даже если бы он захотел, одолеть столь большое число врагов, полагаясь на столь слабое оружие; одобряю и хвалю, Катон, твою жалобу. Ты, возможно, знаешь, что человеку с мягким и добрым характером свойственно страдать по поводу чужого зла. И в том, что ты напал на природу за то, что она плохо обращалась с нами, смело соглашаюсь с тобой и подписываюсь под этим обвинением, если только ты объявишь, какое обвинение выдвигаешь. Ты ведь не доказываешь того, что полагаешь очевидным, и за доказанное считаешь то, что существует большее число пороков, чем добродетелей. (2) И то, что ты приводишь авторитет Аристотеля, мужа выдающегося ума, не вынуждает нас с тобой тотчас согласиться. Впрочем, Аристотель не у себя самого нашел эту мысль, а у своего учителя Платона, от которого обычно охотно удалялся. Видишь, как я помогаю твоей задаче? Мы имеем авторитет не только Аристотеля, но также, что важнее, Платона, который, полагаю, всегда значил и должен значить более всего. Но помни, что не всегда следует верить авторитетам, которые, даже если и сказали многие вещи хорошо, иногда, однако, как свойственно людям, ошибались. Поэтому считаю большим глупцом любого, кто всецело доверяет книгам и тщательно не исследует, истинно ли они говорят! И это [касается] как прочих вещей, так особенно добродетелей, в [следовании] которым состоит всякая наука жизни. (3) Раз это так, посмотрим, правильно ли сделал твой Аристотель, устанавливая большее число пороков, чем добродетелей. Ты с ним в этом соглашаешься, я же вовсе нет, поскольку можно с полной очевидностью доказать, что каждому пороку противостоит одна добродетель, и что ложно говорить, будто существует с обеих сторон избыток и недостаток, в середине добродетель, которая называется как бы серединой между слишком и мало 7, и что впустую спорить, которая из обеих крайностей более противоположна середине.
(4) В самом деле, тот, кто чего-то избегает и страшится именно тех вещей, которых следует избегать, разве покажется тебе мужественным? Несомненно, он и не робок. Равно и тот, кто отдается некоторым дозволенным наслаждениям, назовется ли из-за этого умеренным? Нисколько. И никто действительно не называется мужественным на том основании, что избегает опасностей, но потому, что не избегает; и умеренным не называется на том основании, что отдается наслаждениям, но оттого, что знает в них меру для себя. [Так] некто, совершающий путь пешком, избежал увиденной вдали толпы разбойников, быстро побежав в глубину леса; любой скажет, что он сделал правильно. Но, после того как он достиг середины леса, несколько уставший от бега, он видит платан, распростерший на цветущем лугу раскидистые ветви, овеваемый нежным ветерком, окруженный журчащим ручьем и поющими птицами; привлеченный такой красотой места, он ложится под платан ненадолго и отдыхает; затем, еще сильнее пленившись этой красотой, он уснул. И никто его в этом не станет упрекать. (5) Так вот, что можно сказать менее подходящее, чем назвать этого человека либо мужественным за тот бег, либо умеренным за тот отдых и сон? И если этот самый путник, о котором я говорю, и не мужественный, и не безрассудный, и не трусливый и если он, с другой стороны, не умеренный, и не неумеренный, и не глупый, как же он в конце концов назовется? Необходимо найти некое четвертое [название], чтобы поместить [его] именно в добродетели. Но это [четвертое] не того рода, который называют безразличным, не имеющим в себе ни порока, ни добродетели, как, например, высморкаться, двигать рукой при разговоре и тому подобное, что, возможно, и само становится частью добродетели или порока. Что же касается того, о чем мы говорим, то и вы не отрицаете, что оно правильно сделано, и я показал, что оно не мужество и не умеренность. (6) Какая в таком случае это будет добродетель? Несомненно, если бы я не нашел ей никакого названия, было бы вполне достаточным сказать, что есть много вещей, которые лишены наименований, и это не только в нашем языке, который беден, но даже в греческом, который богат. Ибо мы от них заимствуем слова часто, они от нас иногда. Да и сам Аристотель, и именно в этом же вопросе, признает, что имеется много вещей, которые лишены определенных названий, подобно тому как есть много слов, имеющих то же самое значение 8. Все же того, кто не подвергает себя безрассудно опасностям и избегает их, когда необходимо, я назову осторожным, не мужественным. Кто в действительности станет отрицать, что осторожность, которая есть та же рассудительность, является добродетелью, либо посчитает, что она заключается в мужестве? Мужество есть презрение к трудностям и опасностям с учетом пользы и с вознаграждением льготами. Рассудительность есть искусство, которое при некотором расчете позволяет совершать выбор добра и зла. А того, кто предается лишь дозволенным наслаждениям, я назову веселым, не умеренным. (7) В данный момент не приходит мне [на ум] другое слово; посоветуй, если у тебя есть что-то более подходящее, хотя нечего беспокоиться о словах, когда сама вещь очевидна. Итак, что мы скажем? Нелепо то, что сделал Аристотель: включил в один вид две между собой действительно различные вещи и даже объединил их под одним именем. Как если бы мужественным был тот, кто у стен [города] сражается с врагами, а после того, как захвачены стены, больше не сражается, поскольку был бы безрассуден. Умеренным – тот, кто не захотел участвовать в твоем пире, как слишком пышном и роскошном, и захотел в моем, в котором не выходили за пределы та пышность и роскошь. Зачем из двух вещей делаешь одну? Зачем одно слово выводишь в двух значениях сверх того, что содержит его природа? Зачем у одних слов отнимаешь их смысл, другим даешь не их собственный? Ведь, согласно твоей мерке, «осторожный» и «веселый» не будут обозначать ничего, «мужественный» и «умеренный» будут обозначать даже слишком. (8) Почему же ты не выделяешь каждой вещи ее имя, ее слово, ее судьбу? Мы ведь не всегда одни и те же; более того, не можем быть такими. Когда я сражаюсь [против врагов], я мужественный, когда сдался победителям-врагам – осторожный, когда воздерживаюсь от пирушки одного человека – умеренный, когда не отвергаю пирушку другого – веселый. Таким образом, эти вещи никогда не делаются друг с другом, но отдельно и попеременно, так что глупо, как я сказал, одновременно желать соединить то, что время разъединило. Ну подумайте, сколь плохо связываются различные обстоятельства, как, например, сражаться с врагами и затем им сдаться. Представь, что этот не хочет сдаваться победителям, но упорно сопротивляется. Он, несомненно, будет безрассудным. (9) Разве по этой причине более высокое мужество не будет мужеством вследствие этого безрассудства или не назовется безрассудством вследствие более высокого мужества? Нет, потому что существуют отдельные вещи и отдельные обстоятельства. В таком случае сражение и бегство, т. е. мужество и осторожность, не одни и те же вещи и не принадлежат одним и тем же обстоятельствам. Поэтому каждое из действий и каждую из вещей вернее оценивать в отдельности. В течение одного и того же часа я буду многократно умеренный и неумеренный многократно, так сказать, тысячу раз, и тысячу раз в течение этого же часа могу поступать правильно и наоборот – до такой степени обычно хвалят или порицают единственное слово. Почему, спросишь? Если мужественен тот, кто сражается, пока должен, и равно не сражается, когда не должен, то и трусом, следовательно, будет тот, кто сражается, когда не должен, а когда должен, не сражается. Откуда произойдет единственная добродетель и, напротив, единственный порок, та – содержащая в себе решительность и осторожность, этот [же] – страх и безрассудство. Этим одним Аристотель явно опровергается. (10) Но вернемся к твоим примерам, ты сделал щедрость противоположной скупости, как будто вообще не существует бережливости или она не более противоположна скупости, чем щедрость. Ибо бережливость, или сдержанность, является не пороком, но добродетелью, поскольку я могу, ничего щедро не раздавая, тем не менее не быть скупым. Ведь если Дарий, Филипп, Александр, Пирр, раздавая многое, были великолепны, то царя, который не делает этого, но, напротив, многие средства собирает на случай военных битв и нужды, не упрекнут, однако, тотчас же в жадности. Не является он также и расточителем, как он свидетельствует. (11) Тогда что же? Щедрый? Говорить так свойственно глупцу, у которого в беспорядке все слова и все мысли. Разъедини эти два слова и их значения, поскольку они разделены по природе. Когда сражаешься, ты либо мужественный, либо безрассудный; когда не сражаешься – либо осторожный, либо трусливый; так и когда даешь: ты либо щедрый, либо расточительный; когда не даешь – либо скупой, либо бережливый. Ведь ты можешь дать и не дать и [сделать] то и другое с добродетелью и то и другое с пороком. Разве лишь считать, что надо уступить тем, кто полагает, что как в отказе от даяния [заключена] щедрость, так даже в даянии скупость; например, когда даю меньше, чем должен бы. Смешно, в самом деле. Ведь я скуп, поскольку не даю, а не поскольку даю, и достоин упрека, потому что не даю, а за то, что даю, даже хвалим. Поэтому не следует смешивать щедрость со скупостью. Я сказал, что бережливость более противоположна скупости, чем щедрость, потому что идет из одного и того же сосуда, как вино и отстой, оливковое масло и пена. (12) И серебру, мне кажется, более противоположно олово или свинец, чем золото или орихалк 9, и орихалк более противоположен золоту, чем те три [металла]. Считаю, что более враждебно и более противоположно чему-либо то, что более всего может [ему] противодействовать. Скупость прикидывается бережливостью, щедростью не прикидывается. То же самое основание у расточительности, которая более враждебна щедрости, чем скупость. С этим не согласен Аристотель, говорящий, что скупость более противоположна щедрости, чем расточительность, и потому ее надо больше остерегаться 10. Когда он это говорит, мне кажется, он только то и говорит: должно остерегаться, как бы меняла не дал нам орихалк, а не олово вместо золота, – совет, какой не следует давать даже слепым. (13) И Аристотель считает, что этим способом он доказывает свой взгляд, что скупость дальше от середины, каковой является щедрость, чем расточительность, и поэтому, считает он, в ней больше порока. В действительности он никогда бы не сказал этого, если бы сообразил, что с подобным основанием можно сказать, что расточительность более противоположна добродетели, поскольку дальше отстоит от середины, каковой является бережливость, и потому содержит [в себе] больше порока, чем скупость. Тем более что расточительность не отстоит дальше от середины. Ведь она имеет нечто общее как со щедростью непосредственно в том, что дает, так и со скупостью в том, что не дает. Не дает же расточительный тем, кому должно [дать], и в отношении их он, несомненно, скуп. И напротив, скупость имеет не меньше подобия со щедростью, чем с бережливостью в том, что не дает. Ибо щедрый дает только тому, кому должно, так что он посчитает нужным отказать в даянии многим, если хочет считаться скорее щедрым, чем расточительным. Поэтому у [доводов] Аристотеля нет никакого основания. (14) Я же показал на Другом, и, как считаю, более верном, основании, какой порок какой добродетели более противоположен. И действительно, если мы захотим вникнуть в природу вещей и судить о жизни людей без словесных хитросплетений в доводах, мы найдем, что расточительство вредит человеческим делам не менее скупости. Ибо почему мы скупы, если не для того, чтобы мочь быть расточительными? И поэтому можно видеть, что существует больше расточительных и одновременно скупых, чем расточительных и одновременно щедрых, и больше бережливых и одновременно щедрых, чем бережливых и одновременно скупых. Ведь потому мы и бережливы, чтобы мочь быть щедрыми. Кто бережлив, избегает только одного, чтобы, не давая щедро, не быть расточительным, а кто щедр – чтобы, давая щедро, не быть скупым. Поэтому я называю скупостью и расточительством все, что делалось скорее либо с бережливостью, либо со щедростью, каковые два [качества] суть крайности середины, которая является пороком, о чем позже [будет сказано] яснее. (15) Теперь [вернемся] к установленному порядку. Строгость является добродетелью. Ей ты противопоставляешь двух противников – непреклонность и слабость, из которых последней противоположна не строгость, но человеколюбие или снисходительность. Рассудительность, хотя она изображается на манер двуликого Януса, не имеет, однако, двух противников – с одной стороны, коварства, с Другой – глупости, так как эта вторая враждебна простоте. Шутовству и грубости не противоположна, во всяком случае, воспользуюсь твоим словом, учтивость, которую мы называем то вежливостью, то любезностью, то приветливостью и еще другими именами. Ибо первому [шутовству] противостоит как раз то, что я назвал разными способами, второй [грубости] – скромность. Подобным образом и в прочем. Ведь достаточно, чтобы разум показал, и палец, как говорится, устремился к источнику. (16) Но [подобное] происходит не только в этой области, о которой мы сказали, а также во всем прочем. Даже если сказать главным образом о наших занятиях, в речи хвалят ораторское богатство, хвалят и краткость, напротив, многословие, а также бесцветность или сухость порицаются, оба этих [качества] противоположны не богатому стилю речи, но последнее – кратчайшему стилю речи. Хотя Аристотель, как обычно, добродетели направляет к середине, пороки отбрасывает на края, но не одобряет в „Риторике“ краткого повествования (ибо относительно слишком длинного повествования все соглашаются) и желает, чтобы оно было не длинным, не коротким, но средним, как все должно быть 11. Этому мнению почти никто не последовал, и всеобщего согласия по справедливости заслужило то деление Исократа, которое порицал Аристотель, [а именно] чтобы повествование было кратким, ясным, правдоподобным 12. (17) Итак, ложно утверждать, что кто говорит много и кто говорит мало – порочно, а кто средне – похвально, так как часто то, что стоит выше [т. е. много и мало], обычно делается похвально. Разве лишь случайно мы до такой степени слепы, что сами слова нас обманывают, когда говорится, что середина находится между избытком и недостатком. Да ведь и слова эти страдают неким пороком. В самом деле, излишек всегда порочен и всегда выходит за пределы, недостаток же означает две [вещи]: одно – то, что является „умеренным“, и я использовал его, другое – то, что „менее, чем должно“, и всегда оказывается недостаточным. Однако относительно этих двух слов нет никакого спора; и они не должны называться крайностями, подобно тому как вина из кислого винограда и из виноградных выжимок, смешанных с водой, являются не крайностями сладкого вина, но вином кислым и сладким. (18) В противном случае Аристотель был бы глупейшим из людей, если бы столь долго обсуждал вопрос, порочно ли „то, что слишком“, а равно „то, что менее того, что должно быть“. Это даже скотина знает. Что в таком случае он искал? Наверно, только ли в середине добродетель или также вне середины. И полагал [ее] только в середине, с чем я не согласен. И потому я сказал, что похвально говорить иногда „много“ и „мало“, а не „чрезмерно“ и „слишком мало“, как говорит Гомер об Улиссе и Менелае 13, и [говорить] не только относительно различных людей, но и одного и того же [человека], как о самом Гомере свидетельствует М. Фабий, говоря: „Никто не превзошел его в высоком стиле в [описании] великих дел, в своеобразии [в описании] малых; а равно он исполнен радости и сдержан, весел и серьезен, удивителен как изобилием, так и краткостью, выдается в высшей степени не только поэтическим, но также и ораторским талантом“ 14. (19) Итак, он похвалил в одном человеке многие различные между собой дарования, не только изобилие и краткость, но и высокий стиль и своеобразие, радость и сдержанность, веселость и серьезность, поэтический и ораторский талант. И то же самое он говорит о речи так: „Пусть речь будет скорая – не стремительная, умеренная – не медлительная“ 15. Разве не видишь, что он сделал скорость и стремительность, а равно умеренность и медлительность противоположными, словно серебро и свинец, золото и орихалк? И, что важно для этого вопроса, он не стал только говорить: „Пусть речь будет умеренной“, из чего одного мы могли бы понять, что следует избегать этих двух [качеств] – медлительности и стремительности. Нигде ведь не принимается та середина между двумя так называемыми крайностями, но всегда равное соотносится с равным. (20) А если угодно, чтобы они назывались крайностями, то почему бы не называть крайностями также добродетели, порок же серединой? Как только что я сказал о расточительности, которая является такой серединой между бережливостью и щедростью, какой у вас щедрость между расточительностью и скупостью, [или] безрассудство является такой серединой между мужеством и осторожностью, какой мужество между трусостью и безрассудством; такой глупость между воздержанностью и веселостью, какой умеренность между глупостью и невоздержанностью. И я не поставлю один только порок в середину, но оба. Ибо ничто не мешает тому, чтобы там, где есть одно, было и другое, как, например, безрассудство и трусость в середине между мужеством и осторожностью. (21) Откуда следует, что мы признаем, что или две добродетели являются крайностями между двумя пороками и, в свою очередь, два порока – крайностями между двумя добродетелями, или отдельный порок противостоит отдельной добродетели, или решаемся расположить те четыре понятия в таком порядке, чтобы они не были ни добродетелями, ни пороками или серединой и крайностями, но составляли часть середины и края; как если бы сначала мы поставили скупость, затем бережливость, потом расточительность, наконец, щедрость. (22) Впрочем, я не понимаю, почему нужно вести разговор о середине и крайностях, которые Аристотель называет избыток и недостаток, словно все, что в середине, есть благо и то, что крайнее, это благо превышает или является недостаточным. Я иногда думаю, что сама середина – с изъяном, а крайности – правильны, например для голоса. Воспользуюсь разными примерами, чтобы дело стало понятнее: средний голос между высоким и низким является наилучшим, однако иногда не следует порицать как высокий голос, который требуется для усиления высказывания, так и низкий, соответствующий началу. Из этого ясно, что середина в голосе ошибочна всякий раз, как обстоятельство дела потребует высокого или низкого голоса, а обе эти крайности не порочны, но хороши и необходимы. (23) И кто может позволить тебе утверждать так, о, беспечный человек, что все крайности порочны? Может быть, [ты так судишь] потому, что середина – добродетель? Но с этим я никоим образом не согласен. Нет, не потому, говорю, что они крайности, ты можешь утверждать, что они имеют либо слишком, либо мало и грешат избытком либо недостатком. Ведь высшая красота, исключительная мудрость лучше, чем средняя. Напротив, наименьшее безобразие, наименьшая глупость лучше, чем средние, и так и в других качествах или действиях, многие из которых я уже показал. В самом деле, добродетели и пороки не распознаются на том основании, что они-де находятся внизу, либо в середине, либо наверху, ведь таким способом узнается, сколь велика добродетель и сколь велик порок, а не добродетель ли это или порок. Например, тот, кто называется расточительным, не есть тот, кто многое щедро раздает, но тот, кто неправильно [это делает], если и расщедрится оболом, как если бы кто товарищам своим дарил каждые календы по одному яблоку или одной монете. (24) Равно и напротив, кто просящему товарищу не дал бы обола, был бы скупым и, несомненно, поступил бы скупо. Но кто наотрез отказал бы просящему обол для дурного дела, был бы бережлив; ежели дал бы для доброго, был бы щедрым и поступил бы щедро. Ведь человек называется щедрым, бережливым, скупым, расточительным не на основании отдельных действий, хотя и за отдельные действия [людей] можно хвалить или порицать, но на основании постоянного и более частого применения определенных действий; не на основании их малости, умеренности или величины и, как я сказал, меры, но на основании мотива [поступка], а также понимания. Я бы сказал больше, если бы дело не было более чем очевидно. Если бы я все раздал, я мог бы быть не расточительным, но щедрым; если ничего не дал, то мог бы быть не скупым, но бережливым. Если же я дал бы очень мало или отказал наотрез, то я не был бы тут же скупым, как я сказал, но либо бережливым, либо щедрым; и повторю вышесказанное: как легче быть расточительным и одновременно скупым, чем расточительным и одновременно щедрым, так легче быть бережливым и одновременно щедрым, чем бережливым и одновременно скупым. Ведь пороки друг с другом, а равно и добродетели между собой находятся в большем согласии, чем вперемешку [т. е. пороки с добродетелями], если только может смешиваться противоположное. (25) Одна существует причина, которая ведет к порокам, и другая, ведущая к добродетелям. И, на мой взгляд, всякий щедрый бережлив и всякий расточительный скуп, и напротив. В общем, все может делаться и правильно и дурно. Так, Александр, когда воины объявили, что захватили женщину необыкновенной красоты, которая, будучи помолвлена, была, однако, еще девушкой, не захотел ее видеть 16, убоявшись, что он, кто не мог быть побежден мощью мужей, будет побежден видом женщины. И здраво в самом смысле [рассудил] и благоразумно. Не менее благоразумно и здраво в подобном деле применил сходный прием Сципион, который в Испании не захотел слышать, видеть и разговаривать ни с одной из пленниц, многие из которых были прекрасны 17. (26) Что же касается того, что ты попытался примерами подкрепить свой взгляд, назвав Крассов, Помпеев, Цезарей, Катонов, Цицеронов, на этот счет мое суждение отличается. Однако ты, кажется, не только забыл тех, по твоему признанию, бесчисленных, о которых вел разговор прежде, – Брута, Горация, Муция и прочих; но и неправильно понимаешь относительно тех самых пятерых, которые тобой осуждаются. В отношении Красса, чтобы тебе кое в чем уступить, соглашусь; относительно других, которых, как вижу, ты очень хвалишь, не могу так легко уступить. Но чтобы не надоедать, посмотрим только на двух последних. Был Катон более непреклонен, более суров, более строг? Был иногда, но не всегда. Позже я сравню то, в чем он ошибался, с тем, в чем не ошибался. Ибо, как я сказал, он не всегда в этом случае ошибался. (27) Разве не помнишь, какого рода было суждение твоего Катона о заговорщиках, которому последовало большинство из сената? До какой степени вознесли его похвалами за ту самую строгость, которую ты порицаешь, Саллюстий 18и Лукан 19? Воздерживаюсь от оглашения их свидетельств, которые и слишком длинны, и общеизвестны. Поэтому со мной в этом все должны согласиться. Если Катон был строг, то он был далек от прегрешения в легкомыслии, т. е. многократно был суров, чтобы сказать то же самое обо всех. Не говорю о тех, которые отличаются неслыханной безнравственностью. Поистине как находятся те, кто чуть ли не божественны, так существуют иные, кто едва отличается по разуму от животных, каковым, как ты посчитал, был Катилина, обезображенный различными пороками. Относительно этого слушай вкратце [такой] ответ: или те пороки не противоположны, как я показал, или [же] он столько же мог иметь добродетелей, сколько имел пороков, т. е. имеется столько воинов с нашей, сколько с противоположной стороны, как ты изволил потребовать. [28] Знаю, что веду это дело не тем способом, как должен был. Некоторые порицали Катона. Разве мы тотчас скажем, что его порицали справедливо? Разве не знаем мы, что на этом многолюдном поприще ораторов, и даже всеобщем поприще, более всего сражаются? Так как в отношении одного и того же качества один уверяет, что оно жестокость, другой – что суровость, этот – что скупость, тот – что бережливость, и то, что я называю тщеславием, ты – великолепием. Эти разногласия заключаются в определении предмета и в силлогизме или умозаключении. На основании чего надобно понять, что к каждой добродетели относится свой порок, [а] не избыток и недостаток. Ведь никакое разногласие никогда не возникало в [определении] того, есть ли это суровость или милосердие либо нерадение, но [есть ли это] суровость либо жестокость, которые, как я бы сказал, противостоят друг другу. (29) Но [вернемся] к главной теме: так близки добродетели и пороки, что нелегко рассудить между ними. И потому многие воспринимают их равным образом в соответствии со своей природой или образом жизни. Как свидетельствует Гораций:
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: