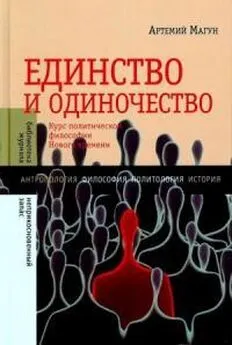Артемий Магун - «Опыт и понятие революции». Сборник статей
- Название:«Опыт и понятие революции». Сборник статей
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:НЛО
- Год:2017
- Город:Москва
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Артемий Магун - «Опыт и понятие революции». Сборник статей краткое содержание
«Опыт и понятие революции». Сборник статей - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Другая важнейшая черта революции 1917 года, роднящая ее с Французской революцией, — это проблема пробуждения и самоуправления неграмотного народа. На этот раз противоречие заостряется. С одной стороны, русская революция гораздо больше ориентирована на бедные неграмотные классы, упирает на материальные и прозаические, а не правовые и политические лозунги. С другой — эта революция возглавляется партией нового типа, и Ленин еще в 1902 году пишет “Что делать?”, где поясняет роль авангарда, и в частности интеллигенции, для обретения рабочими классового самосознания. После революции быстро происходит сублимация связанных с ней лозунгов и имен, даже когда они носят изначально прозаический характер (индустриализация, генеральная линия и т. д.). Именно в связи с социалистической революцией и вообще с социалистическим движением выдвигает свое понятие “органического интеллектуала” Антонио Грамши [9]. Между пролетариатом или крестьянством и традиционными интеллектуалами лежит пропасть, но ее можно преодолеть, считает Грамши, за счет опосредования, опоры на промежуточный уровень “органических интеллектуалов”, то есть инженеров, сельских врачей и т. д., которые тесно связаны со своим классом, но при этом способны универсализировать его позиции. Ясно, хотя сам Грамши об этом не пишет, что именно революция как событие стимулирует и образует означенных “органических интеллектуалов”, с риском их немедленной профессионализации.
Рансьер уделяет особое внимание прозе Исаака Бабеля, показывая, как он пытается воспроизвести “наивную” речь пролетариев и как это у него в конце концов не выходит. Казаки Бабеля говорят формулами, заимствованными из большевистской прессы, в которой пишут как раз интеллигенты вроде Бабеля [10]. Андрей Платонов, по сути, ставит себе ту же задачу, что и Бабель (отсюда его гениальный язык, смешивающий неграмотную речь, наивный остраняющий взгляд и термины советской идеологии и философии), — однако решает ее по-другому. Герои Платонова — наивные субъекты, говорящие на смеси просторечия и бюрократического жаргона, однако выражающие на этом новом наречии интересные, оригинальные, часто поэтические или философские мысли. Платонов, в отличие от Бабеля, не занимает по отношению к этой речи иронической позиции, а пользуется ею сам.
Будучи крупным философски эрудированным мыслителем, он в то же время происходит из рабочей семьи, так что мы здесь видим вполне буквально “органического” пролетарского интеллектуала, работавшего и как инженер, и как писатель. С самого начала Платонов усматривает символическое и литературное значение инженерной деятельности, а литературу в традиции Пролеткульта рассматривает с точки зрения инженерии, технической сделанности. Однако “опосредование” между вещественной и символической деятельностью не дается ему легко. К концу 1920-х годов в творчестве Платонова начинает нарастать мотив меланхолии и тоски. Это означает не признание неудачи в порождении органического интеллектуала, а, скорее, обнаружение тоски в качестве субъективирующего и интеллектуализирующего “оператора”.
РЕВОЛЮЦИОННАЯ ТОСКА И НЕГАТИВНОСТЬ
В своей книге “Отрицательная революция” [11]я сопоставил странный патос меланхолии, ипохондрии и катастрофизма, присущий россиянам в начале 1990-х, с аффективным фоном Французской революции, который был во многом аналогичным и который стал одним из факторов, обусловивших террор 1792–1794 годов. При этом я полагал, что этот аффект, вызван, во-первых, неопределенностью и затянутостью “переходного периода”, когда прошлые институты депотенцированы, развенчаны, но все еще сохраняются, во-вторых, исчезновением внешнего объекта для критики (советского государства), в-третьих, своего рода негативной субъективацией — перед лицом резких изменений субъект возвращается к своему потерявшему смысл прошлому, чтобы ввести его в будущее, хотя бы в страдающем виде. Я предположил, что такая субъективность составит некое ядро пассивного сопротивления возможному авторитаризму. Опыт показывает, что я ошибался, так как счел, что апатия и эскапизм могут быть легко “переведены” на политический язык.
Я говорил и о том, что парадоксы негативности могут быть философски проинтерпретированы, лишь если учесть саму логику отрицания. Оказывается, что между отрицанием и утверждением существует асимметрия: отрицание вторично по отношению к утверждению, употребляется применительно к утверждению. Отсюда вытекает несколько свойств отрицания:
Незавершенность и неполнота , бессилие: отрицание не может до конца уничтожить свой объект (говоря “я не верблюд”, я порождаю в сознании саму идею того, что я мог бы быть верблюдом) . Латентность : мы склонны замечать утверждение, а не сцепленное с ним отрицание (например, любовь мы приписываем себе, а ненависть — внешним причинам, борясь с несправедливой ситуацией, мы объясняем борьбу свойствами этой ситуации, а не нашей агрессией, и т. д) . Фантазматичность : поскольку окончательное отрицание (например, дьявольское зло) само существовать не может, мы достраиваем его в воображении . Необратимость , предстающая как частичная обратимость: мы не можем возродить прошлое, но постоянно пытаемся это сделать . Невыносимость : парадоксальное, не вполне существующее, потенциально бесконечное отрицание отталкивает нас, и наши опыты вражды, ненависти и тоски активно вытесняются нами из нашего обыденного сознания.
Революция как событие, включающее в себя не только физическое разрушение, но и символический разрыв между старым и новым, является в той же мере отрицательным, что и творчески-утвердительным феноменом. Депотенцирование старого порядка, не до конца уничтоженного, рождает странные феномены мертвой, призрачной жизни, которые могут вызывать меланхолию, а могут — веселую игру воображения и потребления [12]. В воображаемом и идейном плане революционное событие всегда является также и “коперниканской революцией” [13], то есть дает новую точку зрения на действительность, позволяет видеть ее как бы с обратной стороны. Отсюда лейтмотив Великой французской и особенно Октябрьской революции — желание освободить не только живых, но и мертвых, дать новый шанс проигравшим и т. д.
Платонов, может быть, больше других эксплуатирует коперниканский характер революции 1917-го — это и “федоровские” идеи воскрешения мертвых, которые он то утверждает, то отрицает (в согласии с идеей обратимости), это и “инверсионность” [14], по словам Бродского, его поэтики (общая установка на подрыв лингвистической нормы). А.С. Гурвич, критик Платонова с “соцреалистических” позиций, написал в 1937 году удивительно подробную статью о его творчестве [15], разгромную, но проницательную:
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: