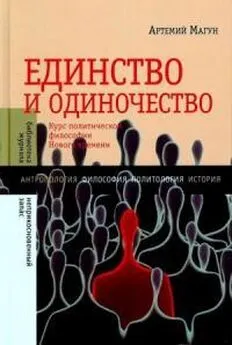Артемий Магун - «Опыт и понятие революции». Сборник статей
- Название:«Опыт и понятие революции». Сборник статей
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:НЛО
- Год:2017
- Город:Москва
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Артемий Магун - «Опыт и понятие революции». Сборник статей краткое содержание
«Опыт и понятие революции». Сборник статей - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Взгляды Давыдова, противостоящие “активизму” Нового времени, были вполне созвучны вышеописанным настроениям ленинградской интеллигенции. Однако в Москве были распространены и идеи, отчасти противоположные ленинградскому “натурализму”. Взгляды ведущих социальных ученых — Эвальда Ильенкова, Алексея Леонтьева, Василия Давыдова — подчеркивали “деятельностный” характер марксизма и продолжали начатую в 1920-е годы линию на построение нового человека. Это были шестидесятники, чьи взгляды к 1980-м годам стали, с одной стороны, рассматриваться как слишком близкие к истеблишменту, а с другой, сама их “деятельность” принимала у последователей “теории деятельности” все более прагматический и тривиальный вид. Гораздо более успешной и популярной в 1980-е и 1990-е годы была “методологическая” школа Георгия Щедровицкого, также основанная на анализе деятельности, но, в отличие от психологии, ориентированная сугубо технократически (как бы мы сказали сегодня). Щедровицкий прямо говорил о том, что его интересует прежде всего “управление” и его формальная структура (можно назвать его зеркальным отражением своего ровесника Мишеля Фуко, разоблачившего “управление” как центральный политический феномен современности). В этом смысле Щедровицкий был фигурой совершенно парадоксальной, с общепринятой точки зрения — романтический технократ, он стал неформальной публичной иконой, собирал толпы слушателей и сплоченные ряды адептов, проповедуя… эффективный менеджмент и при этом не имея доступа к управлению чем бы то ни было. Последний раз, когда теоретики менеджмента считались революционерами, имел место, наверное, во время Французской революции, когда французский народ требовал от короля вернуть на место министра-физиократа Жака Неккера. Именно 1780-е и 1790-е годы на новом витке и отразились в позднем СССР — как отразились и пореволюционная меланхолия, и парадоксальный идиллический дух радикальных революционеров [17] Об этом см.: Озуф М. Революционный праздник . М.: Языки славянской культуры, 2003; Магун А. Указ соч .
, и неразличенность либеральных, демократических и консервативных идей (которые как раз в результате французской революции и стали различать). Щедровицкий, шестидесятник, противостоял пассивизму (и пассеизму) упомянутых мною консерваторов и был в своем критическом интересе к советскому наследию либерал, но это был специфический либерализм, выносящий за скобки общественно-политические цели и предпосылки деятельности, являющийся в этом смысле авторитарным и потому так же консервативным, в смысле готовности стать на службу господствующей политической силе (вспомним авторитарные симпатии Миграняна и Клямкина, хотя они поначалу ставили на харизматического революционера ). Не случайна поэтому роль, которую сыграли ученики Щедровицкого в формировании института “политтехнологии” в 1990-е годы. Либеральный консерватизм Щедровицкого в этом смысле зеркально противоположен консервативному либерализму Александра Эткинда или Юрия Давыдова.
В московской неофициальной среде были круги, более близкие к настоящему либерализму. Это Мераб Мамардашвили с его проповедью героического индивидуализма и поступка (правда, преимущественно мыслительного). Впрочем, не надо забывать и про эволюцию Мамардашвили в конце 1980-х — его поворот к национализму. Это круг Юрия Левады, который в 1990-е и 2000-е сформировал школу эмпирической социологии, описывающую постсоветскую Россию в мрачных тонах как негативный сколок с “нормального” западного общества. В этом круг Левады близок ведущему эстетическому направлению московской интеллигенции — “концептуализму”, который строился на пародировании и переворачивании традиционной советской эстетики и идеологии. Ироническая отстраненность концептуалистов от штампованного советского языка несла в себе критическую либеральную направленность — и так была истолкована ими во время и после перестройки. Однако изначально эстетика концептуалистов была амбивалентна. Борис Гройс, сам не будучи либералом, истолковал их творчество в своей известной статье 1979 года [18] Гройс Б. Искусство утопии . М.: Художественный журнал, 2003. С. 168–186.
как сакрализующую интерпретацию советской культуры, возвращающую ее к мифорелигиозным корням. Действительно, наряду с либерально настроенными Приговым и Рубинштейном, в 1990-е годы последователями концептуализма были Виктор Пелевин и Павел Пепперштейн (позднее тем же путем пошел Владимир Сорокин) с их мистически-оккультной интерпретацией советской истории. Иронически-“постмодернистский” извод их виртуозных текстов не должен заслонять от нас вскрытую еще Гройсом мистификацию и ауратизацию отвратительной, но непреодолимой действительности. В философии идеологическую программу концептуализма не менее виртуозно развивают Валерий Подорога и Михаил Рыклин. Отказ от традиционных “идеологических” инструментов анализа позволяет Подороге выявить непосредственную “психомиметическую” действенность российских и советских текстов, совращающих, так сказать, своей отвратительностью. Рыклин в своих текстах перестроечного периода так же анализирует неклассические тоталитарные “террорологики” [19] Рыклин М. Террорологики . Тарту: Эйдос, 1992.
. Однако с либеральной критикой в адрес “тоталитарного” советского общества соседствует у Рыклина (и отчасти у Подороги) убежденность в его незыблемости и возведение нынешних проблем России к уникальному тоталитарному прошлому. Впрочем, в более недавних текстах Рыклин переходит на более классические либеральные позиции, усматривая в “тоталитарных” тенденциях всеобщий, а не только российский феномен [20] Он же. Свобода и запрет. Культура в эпоху террора . М., 2008.
.
Вообще негативизм российской интеллигенции по отношению к российской действительности — оправданный, конечно, во многом — зашкаливая, возвращает авторов на консервативную орбиту. Филиппики Льва Гудкова и Бориса Дубина против отсталой России начинают уже напоминать все те же прочитанные когда-то книги о “Восстании масс” Ортеги-и-Гассета [21] См., например: Гудков Л., Дубин Б., Зоркая Н. Постсоветский человек и гражданское общество . М.: Московская школа политических исследований, 2008. Книга изобилует отсылками к “массовидности” российского общества и его крайне резкими оценками в сравнении с западным человеком. Как и Эткинд, авторы школы Юрия Левады обращают внимание на построение в СССР “нового человека” — хотя они и не осуждают категорически самого факта мечты о новом человеке, в данном конкретном случае продукт антропологического творчества (успешного, с их точки зрения) весьма плачевен. Интересна здесь, кстати, разница в оценках реализованности проекта советского общества, которая характеризует, соответственно, петербургскую и московскую неофициальную культуру. Первая отказывается от советского наследия, стремится выскочить из него назад или вперед. Вторая же, наоборот, акцентирует необратимость и специфику построенного советского “тоталитарного” общества — с разной, конечно, степенью симпатии к нему.
. Ярким примером здесь является недавняя работа петербургской исследовательницы Дины Хапаевой [22] Хапаева Д. Кошмар: литература и жизнь . М.: Текст, 2010.
, которая полемически обличает уже не только российское “готическое общество”, но большую часть всемирной модернистской культуры, утверждая, что она вводит людей в состояние кошмара. Тезис сильный и частично убедительный, но перекликается он с неожиданными для либерального автора персонажами — например с марксистом-ортодоксом Дьёрдем Лукачем и особенно с его учеником Михаилом Лифшицем, консервативным интерпретатором марксизма и борцом с эстетикой “безобразия”, каковым был, по его мнению, модернизм. И это не просто совпадение мыслей, а след общественной идеологической эволюции. В случае перечисленных позднесоветских и российских либералов имел место диалектический переход — либерализм, бичующий советский консервативный режим, после революции, этот режим поменявшей и приобщившей страну к мировому буржуазно-либеральному устройству, стал держаться за свою критику и за неизменность ее отвратительного объекта с упорством, которому позавидовали бы советские “консерваторы”.
Интервал:
Закладка: