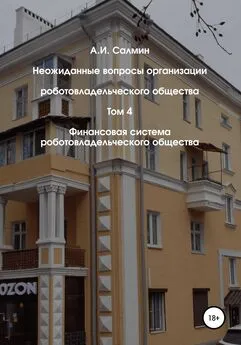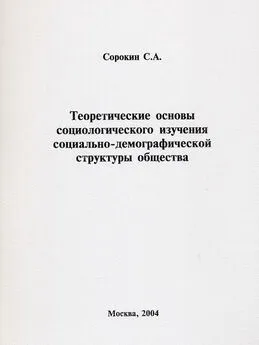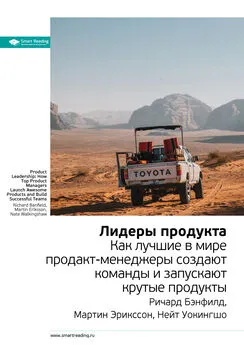Эдвард Бэнфилд - Моральные основы отсталого общества
- Название:Моральные основы отсталого общества
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Литагент Новое издательство
- Год:2019
- Город:Москва
- ISBN:978-5-98379-242-5
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Эдвард Бэнфилд - Моральные основы отсталого общества краткое содержание
Моральные основы отсталого общества - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
На одном из рисунков, которые предлагались тестируемым, мальчик рассматривает лежащую перед ним на столе скрипку.
Одиннадцать из шестнадцати жителей Монтеграно решили, что мальчик – сирота; восьмерым из этих одиннадцати показалось, что он нищий попрошайка, одному – что он умирает от голода, одному – что с мальчиком жестоко обращается его скупой дядя, и одному – что это никому не нужный внебрачный ребенок. Из жителей севера никто не счел мальчика ни сиротой, ни нищим; большинство увидели в нем честолюбивого парня, который мечтает стать скрипачом. Из тридцати канзасских фермеров он также никому не показался сиротой или нищим (хотя пятеро и назвали его «бедным»); тринадцать сказали, что мальчика заставляют учиться игре на скрипке против его воли [63].
В том, что жители Монтеграно настолько одержимы страхом умереть раньше времени и оставить детей «на улице», нет ничего удивительного. До того как после Второй мировой войны широкое распространение получили антибиотики, смертность в коммуне была очень высока – она никогда не опускалась ниже 15 смертей на 1000 человек в год, а в иные времена, возможно, достигала 40–50 на 1000. Еще совсем недавно ребенок с большой вероятностью лишался одного или обоих родителей прежде, чем достигал совершеннолетия.
Но дело не в одной только высокой смертности. Бедность в Монтеграно была (и остается) такой безысходной, что родители не могли обеспечить детям средства существования на случай своей смерти. Сирота был почти всегда обречен на нищенство.
Многие из тех, кто в наши дни боится, как бы их дети не осиротели, сами росли сиротами. Других воспитывали отчимы и мачехи. Всего несколько лет назад ребенок, который вырастал с родными отцом и матерью, считался настоящим счастливчиком.
Даже при двух живых родителях детей с ранних лет отправляли (и по-прежнему отправляют) прислугой или в ученичество к чужим людям, чтобы они сами зарабатывали себе на жизнь. Жестокий padrone – такая же привычная для жителя Монтеграно фигура, как злые отчим, мачеха и сводные братья и сестры.
О важности такого детского опыта можно безошибочно судить по многим автобиографическим рассказам жителей Монтеграно. Прато, например, едва помнит своего отца, который умер, когда он был еще маленьким. Его мать снова вышла замуж и, по словам Прато, с детьми от второго мужа обращалась намного лучше, чем с рожденными в первом браке. В 11 или 12 лет его отправили в услужение. Воспоминания Прато о следующих годах его жизни – это рассказ о бесконечных мучениях: он пас скот под зимними дождями, ходил в лес за хворостом по глубокому снегу, постоянно голодал. Сводная сестра, с которой у него потом на всю жизнь испортились отношения, гоняла его палкой.
Жена Прато помнит, как в раннем детстве мачеха выставляла ее с сестрами из комнаты, чтобы спокойно покормить молоком и яйцами своих собственных детей. Ее с сестрами кормили одним хлебом, и тем часто не вдоволь. В шесть лет ее послали работать служанкой в Калабрию. Там она каждое утро должна была натаскать домой воды из колодца. «Пусть лучше мои дети умрут, чем будут жить, как жила я», – говорит она.
У Марии Вителло мать умерла в 33 года, а отец – в 36 лет; после них осталось пятеро детей. Марию отправили в услужение к родственникам в Неаполь. Вот что она рассказывает о своем детстве:
Лучше всего я помню, что мною все помыкали и мало кормили. Еще меня часто били. Своих детей я тоже бью, но совсем слегка, если сравнивать с тем, как доставалось мне. Какие-то вещи, помню, повторялись снова и снова. Тетя посылала меня в лавку купить три четверти килограмма rachitelli [разновидность макарон]. Всю дорогу до лавки я, чтобы не забыть, повторяла про себя: «ракителли, ракителли». А когда приходила, почему-то просила vermicelli [другая разновидность макарон]. За обедом по тарелке макарон накладывали всем, кроме меня. Мне не давали ничего. Я вставала из-за стола голодная. Еще мой дядя иногда напивался и меня бил.
Отец Паскуалины умер за несколько дней до ее рождения. Ее мать снова вышла замуж и родила еще троих детей. Отчим был человеком добрым, но вскоре уехал в Америку. По прошествии времени он написал жене, чтобы она с детьми ехала к нему, и прислал денег. Мать Паскуалины продала дом и землю, купила одежду для путешествия и билеты на корабль. Но за восемь дней до отплытия отчим телеграммой велел им не приезжать. Если они приедут, объяснил он, хозяин его уволит. С тех пор от него не было ни строчки, а мать, как могла, в одиночку воспитывала пятерых детей. Из-за того, что ее надежды были так жестоко обмануты, она стала «нервной». «Наверно, никого – даже в те времена – не били больше, чем меня», – вспоминает Паскуалина.
И в других местах люди, конечно, переживали нечто похожее. На протяжении большей части истории и практически во всех уголках света родители имели все основания ожидать, что они умрут молодыми. Но нигде больше люди не стали от этого так бояться будущего, как боятся его в Монтеграно. Очевидно, таким образом, что на формирование местного этоса повлияли и другие обстоятельства.
Одно из таких обстоятельств – специфика структуры семьи. В некоторых обществах семья достаточна велика и сильна для того, чтобы смерть родителей не означала для осиротевших детей полной жизненной катастрофы. В случае с расширенной семьей, дети, потеряв родителей, сохраняют свою принадлежность к ней. Где-то к дядьям и теткам ребенок привязан не меньше, чем к отцу с матерью. Где-то (как, например, в случае мира в России прошлого столетия) он крепче всего привязан к общине в целом. В таких обществах потеря родителей не так страшна – о ребенке и без них есть кому позаботиться. Если ребенок испытывает сильную привязанность к расширенной семье или общине, его привязанность к родным матери с отцом может, соответственно, быть слабее. В этом случае смерть родителя становится для него меньшим эмоциональным потрясением.
За редкими исключениями (см. таблицу 11 в Приложении А) домохозяйства в Монтеграно состоят из членов одной нуклеарной семьи. Поскольку здешний ребенок живет отдельно от дедов, бабок, дядьев и теток, не считая их в полном смысле членами своей семьи, он – в отличие от ребенка, растущего в расширенной семье, – не ждет защиты, помощи и любви ни от кого, кроме родителей. Он думает, что если они умрут, он останется «на улице». В Монтеграно родственники не принимают сироту автоматически в свою семью: у них может не оказаться возможности или желания это сделать. А если и принимают, то часто на положение прислуги; даже если сироту не заставляют выполнять работу по дому, с ним никогда не обращаются, как с равным. Кого-кого, а Золушек в Монтеграно хватает.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
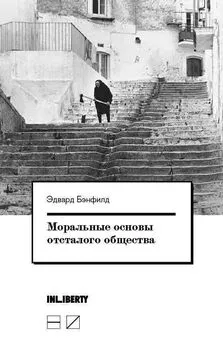



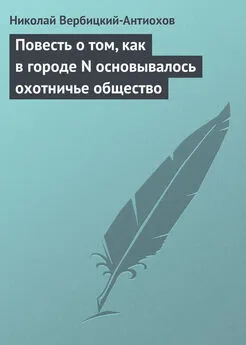
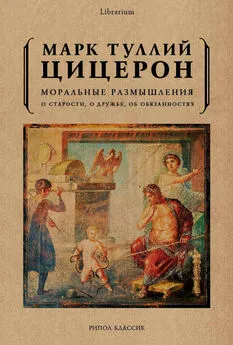
![Нурбулат Масанов - Кочевая цивилизация казахов [Основы жизнедеятельности номадного общества]](/books/1097144/nurbulat-masanov-kochevaya-civilizaciya-kazahov-osno.webp)