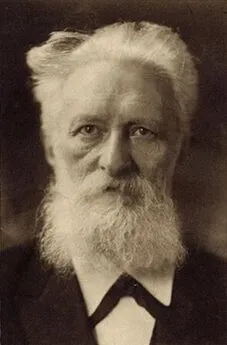Фрэнсис Паркер Йоки - Imperium. Философия истории и политики
- Название:Imperium. Философия истории и политики
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:«Русский Мiръ»
- Год:2017
- Город:Санкт-Петербург
- ISBN:978-5-904088-25-5
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Фрэнсис Паркер Йоки - Imperium. Философия истории и политики краткое содержание
Независимо от того факта, что книга постулирует неизбежность дальнейшей политической конфронтации существующих культурных сообществ, а также сообществ, пребывающих, по мнению автора, вне культуры, ее политологические и мировоззренческие прозрения чрезвычайно актуальны с исторической перспективы текущего, XXI столетия.
С научной точки зрения эту книгу критиковать бессмысленно. И не потому, что она ненаучна, а в силу того, что поднимаемые в ней вопросы, например патология культуры как живого сверхорганизма, по меньшей мере, недостаточно исследованы или замалчиваются из либеральных соображений.
Книга адресована самому широкому кругу читателей, небезразличных к политике, а также к судьбе человечества в целом.
Imperium. Философия истории и политики - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Такой порядок, по мнению Йоки, был чисто механическим и бесцельным. После Первой мировой войны настала новая фаза истории. В самой науке постепенно победили неклассические теории, в которых на первое место выдвигалась не материя, а человеческий разум. Наука «одухотворилась», ее основанием была признана культура и душа, которую отличает символическая деятельность. Так материализм выполнил свою миссию и был преодолен. Однако «исчезновение реальности» привело к преклонению перед техникой, которая понимается чисто функционально, она не связана с постижением истины, которую искала высокая наука. Ее задача — получение энергии и подчинении ее воле человека. Технологии обслуживают промышленность, хозяйство, политику. Им важна не теория, а практический результат.
Представители консерватизма опирались в своих размышлениях на ценности и традиции, а представители либерализма отстаивали рациональность. При этом все они критиковали капиталистическую экономику, а заодно обслуживающую ее науку и технику. Суть проблемы в том, что наука и техника вовсе не нейтральны, они не являются только инструментами, служащими для удовлетворения потребностей людей. Логика технологий нечеловеческая, и она трансформирует сознание. Сциентистский подход можно назвать новой формой отчуждения, которая была неизвестна Марксу. Отсюда антисциентизм можно квалифицировать как разновидность критики идеологии, для которой идеологией является сама наука и техника. Поэтому на нее обрушились и слева, и справа представители «критической теории» и консерваторы. Адорно и Хоркхаймер считали рационализм следствием капитализма и в своей «Диалектике просвещения» раскрыли его репрессивный характер. Они указали, что позитивизм — это своего рода мифология буржуазного общества. Консерваторы, наоборот, критиковали рационализм за то, что он привел к «разволшебствованию» мира, сделал человека безродным и бездомным космополитом. Иррациональность, к которой взывает Йоки, не является диалектическим самоотрицанием рациональности. Это проявление самой жизни, судьбы культурного организма.
Йоки осуществил разгромную критику существующих подходов к пониманию истории. Он не оставил камня на камне от учений Дарвина, Маркса и Фрейда, назвав их разрушителями души западной культуры. Теорию естественного отбора он связал с капитализмом. Ее нельзя расценивать как истинную или ложную, ибо она опирается на очевидность конкуренции. Теорию классовой борьбы Йоки связал с еврейским мессианизмом, а психоанализ — с буржуазией. Все эти формы мировосприятия объединяет ресентимент. Принимая во внимание тенденциозность его критики, нельзя отмахиваться от всех замечаний. Йоки собрал основные возражения против этих концепций, и хотя они уже не имеют прежнего влияния, следует знать их недостатки.
Йоки отрицал плоский эволюционизм как упрощенную модель развития, согласно которой постепенно, шаг за шагом человечество строит цивилизацию, основанную на рационализме и гуманизме. Он был верным последователем шпенглеровской программы морфологии культуры. Им реконструированы «культурно-символические» предпосылки формирования образа природы и раскрыты «природные» основания формирования образа культуры. Очевидно влияние витализма и гештальт-психологии на такое понимание мировой истории. Экспликация взаимосвязи логики жизни и логики причинности опирается на философскую антропологию Хельмута Плеснера. Различая понятия типа и рода, Шпенглер оригинально и вместе с тем основательно развил метафоры организма и растения применительно к описанию специфики культуры [4] См.: Подорога Б.В. Идеологические корни философии истории Освальда Шпенглера // Вестник РГГУ. 2014. № 10 (132). С. 57–66.
. Особый интерес вызывает концепция организма. Обычно органы мыслятся инструментально, но если орудие функционально, то органы могут заменять друг друга. Кроме того, отношения органа и тела сложнее, чем у деталей машины. Наконец, органы обеспечивают приспособление к среде, но они же и препятствуют этому. Согласно теории «выключения тела» человек дистанцируется от воздействия окружающей среды за счет использования орудий. Этой «конструктивистской» программе Плесснер противопоставлял целостный подход и использовал понятие «жизненного круга». Органы и тело, как писал Плесснер, во-первых, эквипотенциальны, т. е. работу больного или утраченного органа может заменять другой, во-вторых, одновременно трансцендентны и имманентны [5] Плеснер Г. Ступени органического и человек: введение в философскую антропологию. М., 2004. 368 с.
.
Шпенглер придерживался органицистского поворота, который произошел в немецкой философии в конце XIX века. Он исходил из противоположности души и тела, которые соотносятся как возможность и действительность. В противоположность конструктивизму Кассирера, Шпенглер трактовал «мир» как непосредственное переживание. Каждый наблюдатель устроен по-разному, и в зависимости от личных предрасположений составляет особенное представление о мире. Напрашивается аналогия с квантовой механикой, в которой учитывается роль приборов в познании. Но на этом пути исследователя поджидает опасность релятивизма. В противоположность Гуссерлю, нашедшему выход в интерсубъективности, Шпенглер считал, что единство обусловлено не переговорами, а первичными мифами, выражающими судьбу народа. Отсюда природу нужно описывать научно, а историю — поэтически. «Природа» и «история» понимаются Шпенглером как два способа постижения мира. Историческое или поэтическое восприятие более раннее. «Природа» более зрелый или, как его оценивал Шпенглер, более «старческий» способ овладевать действительностью, он связан с городской жизнью, где властвуют деньги и обмен, подсчеты и расчеты. Поэтому механическое понимание мира постепенно становится общепринятым. Оно, доказывал Шпенглер, является односторонним, поэтому всегда необходим качественный подход. В качестве примера он приводил образ «живой природы» Гёте как нечто, являющееся непосредственным созерцанием становления и развития. Его мир был организмом, который постигается методами не количественного измерения и причинности, а морфологии, учитывающей качественные особенности мира.
Разделяя воззрения Бергсона на время как длительность, указывая, что механистическое естествознание описывает мир как ставшее, наличное, настоящее, т. е. в пространстве, Шпенглер считал, что история — это мир во времени, в становлении. Вместо гомогенного пространства предлагается качественная топология, учитывающая особенность мест, в которых существуют описываемые явления. Шпенглер предрекал революцию в познании, результатом которой станет победа морфологического подхода. В перспективе он мечтал о появлении единой физиогномики всего человеческого. История изучает организмы большого стиля, за телами она открывает души. Понимание истории как органического процесса трансформации первоначального прафеномена предполагает, что каждый культурный организм в центре души хранит идею своей судьбы.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: