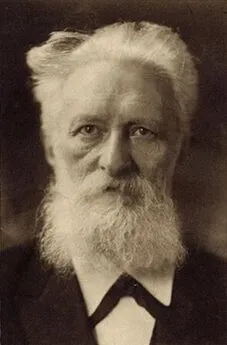Фрэнсис Паркер Йоки - Imperium. Философия истории и политики
- Название:Imperium. Философия истории и политики
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:«Русский Мiръ»
- Год:2017
- Город:Санкт-Петербург
- ISBN:978-5-904088-25-5
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Фрэнсис Паркер Йоки - Imperium. Философия истории и политики краткое содержание
Независимо от того факта, что книга постулирует неизбежность дальнейшей политической конфронтации существующих культурных сообществ, а также сообществ, пребывающих, по мнению автора, вне культуры, ее политологические и мировоззренческие прозрения чрезвычайно актуальны с исторической перспективы текущего, XXI столетия.
С научной точки зрения эту книгу критиковать бессмысленно. И не потому, что она ненаучна, а в силу того, что поднимаемые в ней вопросы, например патология культуры как живого сверхорганизма, по меньшей мере, недостаточно исследованы или замалчиваются из либеральных соображений.
Книга адресована самому широкому кругу читателей, небезразличных к политике, а также к судьбе человечества в целом.
Imperium. Философия истории и политики - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Противопоставляя закону причинности судьбу, Шпенглер имел в виду, что в законе сконцентрирован опыт прошлого, а судьба повернута к будущему, и это очень важно для истории, которая должна помогать осмыслению настоящего и предвидению будущего. Понятие закона, предполагающего причинно-следственные связи, применительно к истории оказывается весьма проблематичным. Исторические законы оказываются настолько общими и тривиальными, что при объяснении событий приходится прибегать к ссылкам на многочисленные конкретные условия и обстоятельства. В результате оказывается, что законы, по сути, и не нужны. Но считать историю случайным сцеплением событий тоже нельзя. Остается возможность рассматривать культуры по аналогии с наделенными сознанием, душой организмами, для описания которых витализм и философия жизни использовали понятие судьбы. Сегодня это понятие успешно вытеснено генетикой. Но нельзя забывать, что ее историческими предпосылками были телеология, холизм и витализм.
Важно не впадать в экономический детерминизм или фатализм. Читая Шпенглера и Йоки, невольно подозреваешь, что за критикой дарвинизма и материализма скрывается их признание. Только на место материальных условий, например «способов производства», ставится «душа культуры». Справедливости ради следует отметить, что Шпенглер резко выступал против редукционизма. Социально-экономические и ценностные феномены несводимы друг к другу, отношения между природой и историей, материальными факторами и духовным феноменами не являются причинно-следственными. Физикалистская методология неприемлема в истории. Шпенглер предлагал вместо объяснения исторического процесса понимать «судьбу» культуры. В новейшей драме у таких писателей, как Ибсен, Стриндберг, Клейст, Шоу, он находил влияние механицизма: они конструируют, а не творят, вместо того чтобы раскрыть судьбу, ищут мотивы событий. На передний план у них выходят социальные, экономические и прочие «вопросы», решая которые, надеются определить человеческую природу. Между тем в истории нет законов, ее события суть символические явления идеи, поэтому вопрос не в том, что такое они сами по себе, а в том, что они означают.
Шпенглер, видимо, был под впечатлением ницшеанской критики историзма и его концепции вечного возвращения того же самого. Он настаивал на соответствии исторических фаз в развитии различных культур и не оставлял ни одной из них, будь то европейская, арабская или русская, иного завершения, как рождение, зрелость и, наконец, закат. Но даже у людей детство, юность, зрелость и старость протекают по-разному. Дети исполняют человеческое предназначение или судьбу по-другому, чем их родители. Повторение, как доказывали Кьеркегор и Ницше, допускает большую степень свободы. Под властью закона отдельные индивиды всего лишь его элементы, а повторять можно по-своему. Вариации и даже аномалии происходят не только на уровне способа действий, но и на структурно-образном уровне. Отсюда значимость формы — морфологии и физиогномики. Ученый, поэт, художник, хозяйственник — это органы культуры. Поэтому результаты их творчества тоже выражают душу культуры, свидетельствуют о ее расцвете или застое.
Кажется, предсказывать исторические события по чертам лица на портретах эпохи — это то же, что гадать на кофейной гуще. Если обоснование релевантности морфологии ссылкой на Гёте еще как-то убеждает, то отсылка к физиогномике, очередная популярность которой была обеспечена Лаватером в середине XIX столетия, в начале XX столетия уже была явно архаичной. Шпенглер трансформировал псевдонаучную физиогномику в некую «научную» эстетику и предложил типологию исторических персонажей, хотя и не такую, как у структуралистов. За образец он брал художника, который сочетал в портрете индивидуальное и родовое, типическое лицо.
И все же в этом «физиогномическом» предположении что-то есть. Если попытаться выразить проект Шпенглера на современном языке, то отчасти он раскрывается в визуальном повороте. Исторические события нужно понимать как знаки, каковыми выступают лица, деяния, жесты. Визуальная антропология и социология работает с такими знаками, которые воспринимаются не как понятия, осмысление и значение которых определяет поведение почитывающего их человека, а как стимулы переживаний и поступков. Способность визуальных, оральных, ольфакторных и прочих невербальных знаков выражать жизнь и судьбу культуры и вызывать те или иные переживания раскрывается в физиогномике Шпенглера. Конечно, он впадает в пафос: «Широкая физиогномика всего существования, морфология становления всего человечества, достигающая на своем пути до высочайших и последних идей: задача проникновения мирочувствования не только своего собственного, но и вообще всех душ, в которых вообще до сего времени появлялись великие возможности и чьим воплощением в области действительного являются великие культуры» [11] Шпенглер О. Закат Европы. т. 1. с. 229.
.
Шпенглер указал на единство таких культурных форм, как наука и искусство, и даже находил аналогии между математикой и политикой. Конечно, временами его сравнения вызывают недоверие. Он работал несколько грубовато, но, имея в виду, что он был первопроходцем и торопился набросать эскиз нового образа истории, можно не цепляться к деталям и высоко оценить его культурологический подход к науке, экономике и политике. То, что Шпенглер называл организмами и судьбой, у Фуко получило название эпистем и стратегий. И хоть он не ссылался на немецкого мыслителя, сходство «Слов и вещей» с «Закатом Европы» неоспоримо. Другое дело, что Фуко жил во время устойчивого развития капитализма и стоял на позициях структурализма. Но сегодня снова настает фаза «мессианского времени», и мы уже не можем утешаться структурами, мы смотрим в будущее и пытаемся предвидеть судьбу.
Кто же все-таки Шпенглер, традиционалист или модернист? С одной стороны, использование понятий прафеномена и судьбы дают повод определить его позицию как консервативную, направленную против новых конструктивистских подходов. Шпенглер критикует конструкции разума и доказывает, что он произрастает на определенной исторической почве. Натуралистическое понимание истории заставляет искать органические связи, каковыми являются климат, территория, род, язык, миф, религия, традиция, хозяйство, война и другие действия, которые соотносятся не только с умозрением, но и с конкретными условиями жизнедеятельности. Совокупность этих органических предпосылок определяет судьбу культуры. С другой стороны, такие отдающие нафталином понятия, как «дух времени», «судьба», у Шпенглера именуют иные темы, нежели у романтиков XIX века. Судя по метким критическим замечаниям, Шпенглер понял Канта лучше, чем тот понимал сам себя. Он вполне обоснованно упрекал его продолжателей в том, что они не уловили дух времени, не пытались осмыслить и проверить интуиции Канта в условиях современности. Шпенглер прозорливо заметил, что Кант не вполне использовал возможности своего революционного поворота в теории познания, особенно тогда, когда настаивал на априорности форм чувственности и рассудка. Напротив, органический или морфологический подход позволяет увидеть изменение самих форм.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: