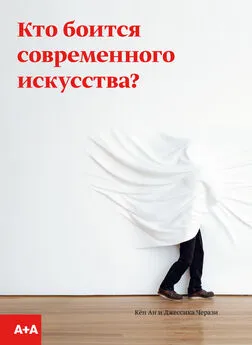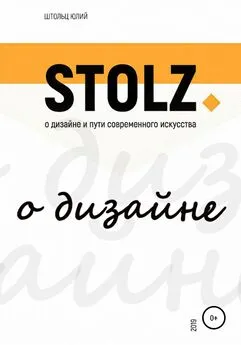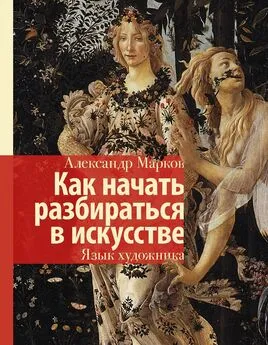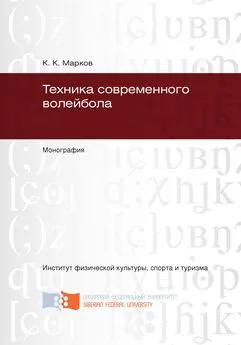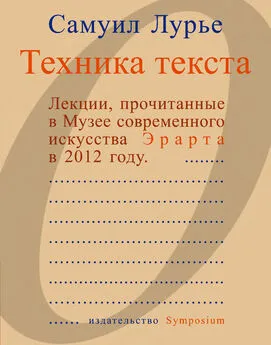Александр Марков - Теории современного искусства
- Название:Теории современного искусства
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:неизвестен
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Александр Марков - Теории современного искусства краткое содержание
Теории современного искусства - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Точно так же и французский «ташизм» (живопись пятнами), представленный, например, Жаном Дюбюффе и Никола де Сталем (он был выходцем из России, как и другой ташист, керамист Серж Поляков) быстро наскучил критике — уже в середине 1950 годов тамошние журналы писали, что бороться против наследия межвоенного экспрессионизма, настаивая на дальневосточном созерцании, на вдохновении от японской каллиграфии и китайского рисунка, — можно один раз, но не из года в год. Но ташисты отстояли себя благодаря союзу с поэзией и философией, например, со сложной философией Хайдеггера, которую критики тогда еще не умели понимать. В этом союзе они стали показывать новый радикализм, создавая собственные новые личности поэтов и философов — высший пилотаж здесь показал Анри Мишо, говоривший, что ни в одном из своих проявлений, ни как поэт, ни как художник, он не равен своей «паспортной личности». А критики, как ни старались, ничего не могли возразить против поэзии и философии и музыки — на стихи Мишо создано немало авангардной музыки.
В США несколько художников попытались выделить внутри абстрактного экспрессионизма что-то вроде та- шизма. Это был проект Гарольда Розенберга, опубликовавшего в 1952 году статью «Американские живописцы действия», которая понравилась и отдельным художникам, и другим критикам. Теорию действия Розенберг стал развивать еще до войны, но тут появилась возможность сказать, что вот в США существует «живопись действия» как самостоятельное и завершенное явление. На эту идею, что картина — всего лишь след от действия, от борьбы, которую производит художник во время создания картины, оказали влияния концепции уже упомянутого австрийско-мексиканского художника Вольфганга Паалена, сформулированные им в книге «Тотемное искусство» (1943).
Этим эссе зачитывались многие, от Барнетта Ньюмана до Марка Ротко, в нем Паален объяснял тотемическую религию как борьбу за то, чтобы быть достойным или достойной памяти предков, связал тотемизм с матриархатом, как бы с символическим возвращением в материнскую утробу тотема — и такая радикальная ретроспектива обосновывала то, что результат не может быть в настоящем, что главным в искусстве является само действие неожиданной работы памяти. А учитывая, что абстрактные экспрессионисты, такие как Виллем де Кунинг, постоянно как раз говорили, что для них значимо действие, а не само произведение, то Паален и Розенберг просто оформили то, что звучало бы без них слишком по- бытовому, и тем самым произвели впечатление, что есть направление «живопись действия», и что к нему относится едва ли не все лучшее в абстрактном экспрессионизме. Только влиятельность Климента Гринберга не позволила перекодировать весь абстрактный экспрессионизм в живопись действия. Зато Розенберга всегда с почтением вспоминали создатели хэппенинга, лэнд-арта и самых различных перформансов и инсталляций.
На литературу равнялось и первое направление современного искусства в Мексике — «Поколение Разрыва», порвавшее с прежним монументализмом, мурализмом 1920–1940 годов и вовлекшее в свою орбиту и писателей, таких как Октавио Пас. По мнению художников Разрыва, монументализм был «манихейским» искусством: превозносившим идеи над материей, отвергавшем материю во имя идеологических деклараций. Разрыв должен был интернационализировать мексиканское искусство, что было непростой задачей, учитывая, что крупнейшие монументалисты, как Сикейрос и Ривера, были коммунистами, деятелями международного коммунистического движения и поэтому были близки и значительной части населения, и коммунистам других стран — в результате Раз рыв рисковал показаться буржуазным и про-штатовским. Но Разрыву помогло их диссидентство — их работы осуждались в конце 1950 годов правящей Институционно-революционной партией, популистской партией, которая легко меняла свои цели в зависимости от настроений избирателей и спонсоров, и поэтому Разрыв стал восприниматься сторонниками как разумная интеллектуальная оппозиция текущему положению дел.
Дальше в Латинскую Америку это новое искусство приходило с запозданием: так, аргентинский «неофигура- тивизм» («новая конфигурация») обозначил себя только на выставке «Другая фигурация» 1961 года. Потом эта группа, «Другая фигурация», провела в 1963 году еще одну громкую выставку, а в 1965 году распалась. Дело в том, что хотя художники этой группы были довольно талантливы, такие как Эрнесто Дейра, но на самом деле всё это новое аргентинское искусство спонсировал и поддерживал один человек — Торкуато ди Телла, создавший собственный институт для проведения выставок современного искусства. Но настоящей инфраструктуры критики и экспонирования ди Телла не создал, хотя и вложил в этих художников значительную часть своего состояния. Сами художники этой группы говорили, что изображают не просто человека, а «человека в контексте», имея в виду некоторую мифологическую или историческую ситуацию, но такая программа тем более требует куратора, способного рассказывать о различных ситуациях.
Некоторые направления американского искусства были прямо созданы критиками. Один из самых известных примеров — «Цветовое поле» Климента Гринберга, увидевшего в живописи Марка Ротко стремление к «сплошному цветовому полю». Сам Ротко вдохновлялся абстракциями Клиффорда Стила и вовсе не стремился создавать направление или течение. Но Ротко и Стил, еще когда учились вместе в Калифорнийской школе изящных ис кусств, пытались обосновать собственную программу подготовки художников, мечтая, когда они станут преподавателями и будут учить правильному использованию цвета. Но они не смогли прославиться как преподаватели, а Гринберг, объяснив, как работает их цвет, тем самым поднял отдельную живописную программу до уровня стандарта. Поэтому потом, в 1960 годы Вашингтонская школа цвета выстраивала себя по образцу «Цветового поля», ориентируясь не столько на пример Ротко или кого-то еще, сколько на критику Гринберга, которая и задавала рамку любых разговоров о цвете в живописи.
Интересно, что когда в Вашингтоне прошла в 1965 году выставка «Вашингтонские художники цвета», то получалось, что эти «художники цвета» выделяются из более общего движения «цветового поля». Но ведь и цветовое поле выделилось из абстрактного экспрессионизма, как что-то более вещественное. А так как «цвет» более общее слово, чем «цветовое поле», то получилось, этим художникам не нужна теория, за них теоретизирует слишком общее их название, эксплуатирующее эти обособления и превращающее их в некие концепции для никогда не названной теории цвета вообще.
Когда за дело брались не журнальные критики, а газетные, получалось что-то другое, чем у журнальных. Так, критик «Нью-Йорк Таймс» Хилтон Крамер, поддерживая ряд новых реалистических художников, фактически создал «Современный реализм» (Contemporary Realism). На репутацию этого направления работало большое количество женщин в нем (можно вспомнить Джейн Фрейли- хер, Джейн Уилсон, Лоис Додд, Джанет Фиш, Кэтрин Мерфи, Ивонн Жакетт и Марту Майер Эрлебахер) — и это неслучайно, журналы тогда еще воспринимались как мужские клубы, а вот газеты писали равно о проблемах мужчин и женщин. А затем реализм подпитывался, находя поддержку в соседних штатах, например, со стороны Академии изящных искусств Пенсильвании, а потом — и Йельского университета.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
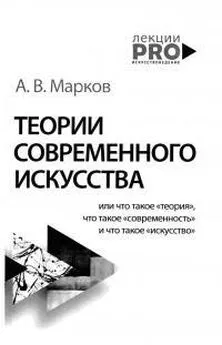

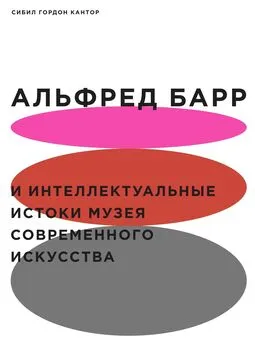
![Александр Марков - Постмодерн культуры и культура постмодерна [Лекции по теории культуры] [litres]](/books/1076529/aleksandr-markov-postmodern-kultury-i-kultura-po.webp)